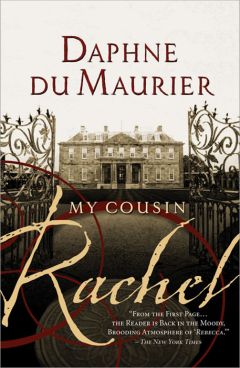В середине мая пришло письмо, в котором сообщалось, что они все же решили остаться на лето за границей. Я едва не вскрикнул от облегчения. Я больше прежнего чувствовал себя предателем, но ничего не мог с собой поделать.
«Твоя кузина Рейчел еще не разобралась с делами, которые необходимо уладить до отъезда в Англию, — писал Эмброз. — Поэтому мы решили — можешь себе представить, как это нас огорчает, — на время отложить возвращение домой. Я делаю все, что могу, но итальянские законы не наши, и примирить те и другие — не так-то просто. Мне приходится тратить уйму денег, но дело стоит того, и я не сетую. Мы часто говорим о тебе, дорогой мальчик. Как бы я хотел, чтобы ты был сейчас с нами!» Далее он задавал вопросы о работах в имении, ко всему проявляя всегдашний горячий интерес; и я подумал, что, должно быть, сошел с ума, если хоть на минуту предположил, будто он может измениться.
Все соседи, конечно, были очень разочарованы, когда узнали, что лето молодые проведут не дома.
— Возможно, — сказала миссис Паско с многозначительной улыбкой, — состояние здоровья миссис Эшли не позволяет ей путешествовать?
— Ничего не могу вам сказать, — ответил я. — Эмброз упомянул в письме, что они провели неделю в Венеции и оба вернулись с ревматизмом.
У миссис Паско вытянулось лицо.
— Ревматизм? И у нее тоже? — проговорила она. — Какое несчастье! — И задумчиво добавила: — Видимо, она старше, чем я думала.
Простая женщина, ее мысли имели только одно направление. В двухлетнем возрасте у меня были ревматические боли в коленях. От роста — говорили мне старшие. Иногда после дождя я и сейчас их чувствую. И все же мы подумали об одном.
Моя кузина Рейчел постарела лет на двадцать. У нее снова были седые волосы, она даже опиралась на палку. Я увидел ее не тогда, когда она ухаживала за розами в своем итальянском саду, представить который у меня не хватало фантазии; постукивая палкой по полу, она сидела за столом в окружении юристов, лопочущих по-итальянски, а мой бедный Эмброз терпеливо сидел рядом с ней.
Почему он не приехал домой и не оставил ее заниматься делами? Однако настроение мое улучшилось, как только желанная новобрачная уступила место стареющей матроне с прострелами в наиболее чувствительных местах. Детская отступила на второй план; я видел гостиную, превратившуюся в заставленный ширмами будуар, где даже в середине лета жарко пылает камин, и слышал, как кто-то раздраженно велит Сикому принести угля — в комнате страшные сквозняки. Я снова принялся петь в седле, травил собаками кроликов, купался перед завтраком, ходил под парусом в лодчонке Эмброза, когда позволял ветер, и перед отъездом Луизы в Лондон, где она собиралась провести сезон, доводил ее до слез шутками о столичных модах. В двадцать три года для хорошего настроения надо не так уж много. Мой дом принадлежал мне, никто его не отнимал.
Затем тон писем Эмброза изменился. Сперва я почти ничего не заметил, но, перечитывая их, в каждом слове все явственней улавливал странное напряжение, в каждой фразе — скрытую тревогу, мало-помалу проникающую в его душу. Я понимал, что в какой-то мере это объясняется ностальгией по дому, тоской по родным местам и привычному укладу жизни, но меня поражало ощущение одиночества, тем более непонятное в человеке, который женился всего десять месяцев назад. Эмброз писал, что долгое лето и осень были очень утомительны, зима наступила необычно душная. Несмотря на то, что на вилле высокие потолки, дышать совершенно нечем, и он бродит из комнаты в комнату, словно собака перед грозой, но грозы все нет и нет. Воздух не становится свежее, и он готов душу отдать за проливной дождь, хоть он и вызывает новые приступы болезни. «Я никогда не страдал головной болью, — писал он, — но теперь она часто докучает мне. Порою она просто нестерпима. Солнце мне до смерти надоело. Мне страшно не хватает тебя. О многом надо поговорить, а в письме всего не скажешь. Моя жена сегодня в городе, вот мне и выпала возможность написать тебе». Здесь он впервые употребил слова «моя жена». Раньше он всегда говорил «Рейчел» или «твоя кузина Рейчел», поэтому слова «моя жена» показались мне слишком официальными и холодными.
В письмах, которые я получил от Эмброза в ту зиму, о возвращении домой речи не было, но он очень хотел узнать последние новости; он отзывался на каждый пустяк в моих письмах, словно ничто другое его не интересовало.
Прошла Пасха, Троица — никаких вестей, и я начал беспокоиться. Своими опасениями я поделился с крестным, но тот сказал, что почта, конечно, задерживается из-за погоды. Сообщали, что в Европе выпал поздний снег, и я мог ожидать писем из Флоренции не раньше конца мая. Прошло больше года, как Эмброз женился, и полтора года, как уехал. Чувство облегчения, которое я испытал, узнав, что его приезд с молодой женой откладывается, сменилось страхом, что он вообще не вернется. Очевидно, первое лето, проведенное в Италии, подвергло его здоровье серьезному испытанию. А как повлияет на него второе? Наконец в июле пришло письмо — короткое, бессвязное, абсолютно на Эмброза не похожее. Даже буквы, обычно такие четкие и разборчивые, расползались по странице, как будто писавший с трудом держал перо. «Дела мои плохи, — писал Эмброз, — о чем ты, наверное, догадался по моему последнему письму. Но никому не говори об этом. Она следит за мной. Я несколько раз писал тебе, но мне здесь некому довериться, и если не удастся самому отправить письма, то они могут не дойти до тебя. Из-за болезни я не в состоянии далеко ходить пешком. Что до врачей, я не верю никому из них. Они все до единого лжецы и обманщики. Новый врач, которого рекомендовал Райнальди, настоящий головорез из той же банды. Однако со мной они напрасно связались, и я их одолею». Далее следовал пропуск и после неразборчивых каракулей, которые я так и не сумел расшифровать, — подпись Эмброза.
Я велел груму оседлать коня и поскакал к крестному показать письмо. Он встревожился не меньше меня.
— Похоже на нервное расстройство, — сказал он после довольно долгого молчания. — Мне это совсем не нравится. Это не мог написать человек в здравом рассудке. Я очень надеюсь…
Крестный замолк и поджал губы.
— Надеетесь… на что? — спросил я.
— Твой дядя Филипп, отец Эмброза, умер от опухоли мозга. Разве ты не знал? — коротко сказал он.
Я ответил, что никогда не слышал, от чего умер мой дядя.
— Тебя, разумеется, тогда еще не было на свете, — заметил крестный. — В семье избегали этой темы. Передаются такие вещи по наследству или нет — не могу сказать, да и врачи не могут. Медицина еще недостаточно развита.
Он надел очки и перечитал письмо.
— Может быть, правда, и другая причина — крайне маловероятная, но я предпочел бы именно ее, — сказал он.
— И какая же?
— Да та, что Эмброз был пьян, когда писал это письмо.
Не будь ему за шестьдесят и не будь он моим крестным, я бы ударил его за такое предположение.
— Я ни разу в жизни не видел Эмброза пьяным, — сказал я.
— Я тоже, — сухо заметил он. — Но из двух зол я выбрал бы меньшее. Думаю, тебе следует поехать в Италию.
— Я и сам так решил, — ответил я.
И я отправился домой, не имея ни малейшего представления, как все это будет. Из Плимута не отплывало ни одно судно, услугами которого я мог бы воспользоваться. Мне предстояло ехать в Лондон, оттуда в Дувр, там сесть на пакетбот до Булони, а затем через Францию добираться до Италии дилижансом. Если поспешить с отъездом, можно попасть во Флоренцию недели через три. Французский язык я знал довольно плохо, итальянского не знал совсем, но ни то ни другое меня не тревожило, лишь бы добраться до Эмброза. Я наскоро попрощался с Сикомом и слугами, объяснив, что решил срочно навестить их хозяина, но ни словом не обмолвившись о его болезни, и прекрасным июльским утром выехал в Лондон, с невеселыми мыслями о почти трехнедельном путешествии по незнакомой стране.
Экипаж уже свернул на бодминскую дорогу, когда я увидел грума, который ехал нам навстречу с почтовой сумкой за поясом. Я велел Веллингтону придержать лошадей, и мальчик протянул мне сумку. Вероятность найти в ней письмо от Эмброза равнялась одному шансу из тысячи, но этот единственный шанс перевесил. Я достал конверт из сумки и отослал грума домой. Веллингтон взмахнул кнутом, а я вынул из конверта клочок бумаги и поднес его к окошку чтобы лучше видеть. Слова были настолько неразборчивы, что я с трудом прочел их.
«Ради Бога, приезжай скорее. Она все же доконала меня, Рейчел, мука моя. Если ты промедлишь, может быть слишком поздно.
Эмброз».
И все. На письме не было даты, на конверте, запечатанном перстнем Эмброза, — никаких пометок, указывающих на время отправления.
С обрывком бумаги в руке я сидел в экипаже, сознавая, что никакая сила, земная или небесная, не доставит меня к нему раньше середины августа.