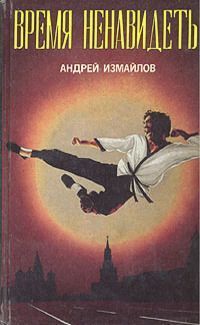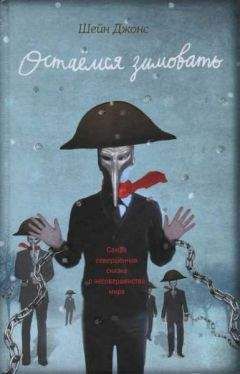Чувство достоинства у Авксентьева не имитировалось, не обуславливалось какими-то там миллионами, оно было. От него просто так и веяло – достоинством… Вот вернется на мельницу, скинет с себя горазд забавные причиндалы, хмыкнет: чудно, однако, в городе – только «Вега» и есть, что надобно. А то папирос ныне найдешь ли где, а «Приму» – либо до половины и выбрасывай, либо усы подпалишь. Длинный фильтр – это справно додумали. И продукт до конца используется, и табаку легкость, никакой мундштук не сравнится.
… Они договорили…
– Как же вы, все-таки, умудрялись? Немцы – аккуратный народ, внимательный. И что, они не усматривали, что хлеб в лес уходит?
– Во-во! Аккуратный. У меня своя книжечка была, куда записывал, сколько от кого зерна. Ну, и гарцевый сбор. За помол-то не деньгами бралось. Мукой. Девять килограммов с центнера – это и был гарцевый сбор. И все я в свою книжечку записывал. Тут немцы приставили к мельнице одного… Аккуратный бес! Герр Донат. С одним буркалом, но зо-оркий! Журнал какой-то разлинованный мне все совал. Заноси, мол, все до грамма. Непонятный какой-то журнал, сложный. Где уж нам, необразованным, в нем разобраться. Ну, раз уж надо, то, конечно, запишем чего ни есть в тот хитрый журнал. А для себя в книжечке черкнем… Так что даже не мешком, а иногда и подводой хлеб в лес шел.
… Они договорили…
– А потом?
– Потом горазд большую каменюку бросили, чтоб плеск был натуральный. Вроде как стрельнули меня и я, значит, упал. А боле не довелось свидеться… Потом с карпушинцами. А как вернулся в сорок четвертом, как немца вышибли, так еще и в регулярных частях послужил. В конвойные войска попал.
– И не было искушения?.. Ну… Вот же они! А на памяти и весь чекмаревский отряд, и Ковтун, и Сагадеев, и… Не было искушения? Вот так, очередью!
– Н-нет… Они ведь тихие были. В плену-то. Жалкие какие-то. Вот глаза у них не волчьи уже, а собачьи какие-то, бродячие. Тоже люди. Горазд плохие. А может, и было такое желание. Не помню сейчас. Стар стал… Потом, значит, незадача такая и получилась – трех недель не прошло моей службы и… То я конвоировал, а то меня…
… Они договорили…
– И как же вы из всего того?
– Да Карпушин поручился. Его как вызвали, стали спрошать про меня, он, бес, забуянил. «Смир-р-рна! – кричит. – Я вам покажу пособника!». И вгорячах пальцем тычет в паренька того, в следователя. Поручился. Это он мне потом рассказывал. Когда же он на Вырву-то наведывался? Вот аккурат в пятьдесят пятом. Четверть века тому уже, значит. Посидели. Он в том же пятьдесят пятом и ушел в землю… А паренек тот – что ж, паренек. У него своя правда была, понимать надо. Каждого понимать надо. И жалеть, коли не его вина. Паренек-то – совсем распашонок. Видимость одна, что взрослый. Какая у него правда? Время было. При тех обидах и фофаны в нарядах.
– Да как же! Да вы бы сказали… вы бы объяснили! Да в конце концов!..
– Экий ты молодой, – чуть протянул Авксентьев, не снисходительно, а с какой-то даже завистью.
… Они договорили…
Они договорили. Каравай кончился. Мед кончился. Гребнев тихо ужаснулся, как ужасаются всему непонятному. Совершенно непонятно, как он умял целый каравай и целую банку меда!
Пленка кончилась. Магнитофон пискнул, дав знать: пленка кончилась. Гребнев включил его на запись, как только пошел «материал». А строчить в блокнот, поглощать дары природы (никаких сил оторваться!), бегать в ванную – полоскать липкие пальцы да еще вести беседу в русле… не то что две ноги – две головы надо иметь. Тогда же, в самом начале, Гребнев потянулся, включил запись:
– Можно?
– Хозяин – барин.
Удивительное все-таки дело! Сколько на памяти Гребнева было людей, сникавших перед микрофоном. Только что так говорили, такое выдавали – хоть на запись включай. Включаешь на запись – куда что девается?! Осознание стопорит, что уже не просто так, а на пленку, уже выступление, м-м, речь – где бумага, бумага где?! М-да, наша страна – самая читающая вслух страна в мире!.. Иначе сникают.
При мельнике же сник магнитофон, тихо-тихо накручивал пленку, не дребезнул ни разу, не комкал пленку в «салат», что за ним водилось. Даже пискнул стеснительно, робко: тут, знаете, у меня пленка кончилась, извините.
– Утомилась твоя механика? – сочувственно сказал Авксентьев. – Да и мне пора. Для какой хоть надобности?
Гребнев понял, что мельник спросил о записи, а не о магнитофоне как таковом – показал жестом, накалякав в воздухе строчку воображаемым пером.
– А, ну-ну. Этот у вас там, в редакции… линялый такой, обходительный. Он, никак, главный?
– Ка-акой он главный! – спонтанно взорал Гребнев.
Нет, но каков мельник! В самую точку – «линялый»! А Парин подсознательно и сознательно гордится своей благородной сединой. Линялый и есть! И взорал Гребнев потому, что мгновенно повторил для себя ход мыслей Авксентьева: для газеты разговор, а в газете этакий главный, линялый и обходительный.
– Никакой он не главный! Это Парин! Парин это! – как будто фамилия могла что-то сказать мельнику.
– А, ну-ну… – Опять же, недооценил Гребнев Трофима Васильевича: читал тот «районку». Не такие уж дремучие дебри – мельница на Вырве. Регулярно читал. И добавил. Не Гребневу, а куда-то себе: – Много мелева, да помолу нет.
…– А банки я вам достану! – пытаясь выразить признательность, симпатию и вообще… все чувства, заверил Гребнев уже в дверях. – Квадратные. В горошек. Для пряностей! – напомнил он непонимающему мельнику. – Вот только гипс снимут, и сразу привезу.
– А, ну-ну. Ты вот что. Ты так приходи. А банки- пряности – блажь бабья. Так приходи. Коробков-то я Варваре две дюжины сплел. Лыко просушил – и хоть большие, хоть малые. Ни крупинки не высыпется, и не ржавеют.
***
Да, договорили. За все, про все. Гребнев, оставшись один, напал на магнитофон, погонял ленту клавишей перемотки. Порядок! Записалось! Все записалось. Теперь только сиди и расшифровывай. А потом конструируй, отсекай все лишнее. Есть ли здесь лишнее? Гребнев «поплыл». Нет лишнего, все важно! Да тут не на полосу и даже не на разворот, а на три полных номера, как минимум!
Отсечь? Что отсечь? Партизанские годы? Послевоенную таску? Историю с якобы расстрелом? А начало? То самое, которое Гребнев уже «нарисовал» не лучшим образом – про первую мельничку-игрушку, смастеренную Тришей Авксентьевым на талом ручейке? Нельзя отсекать – долгий след от той игрушки – годы и годы, хлеб и хлеб. Путь.
А что тогда? «Злостное хулиганство»? Вот уж нет! Уж это будьте-нате, малоуважаемый товарищ Парин! «Много мелева, да помолу нет», – сказал о Парине мельник? Прав и не прав. Помол-то есть, только сильно мусорный, просто-таки сплошной мусор! Значит, не все ясно с военным прошлым, малоуважаемый старший товарищ?! Значит, злостный хулиган, говоришь?! Сведения, говоришь, есть?! Не все ясно, но есть сведения, говоришь?! А вот Гребнев и прояснит! И про военное прошлое. И про злостное, хулиганское настоящее. Ох, как Гребнев понимает мельника! Ох, как! «Значит, выхожу я, – говорил Авксентьев, – а тут…».
… А тут на взгорке – двое. Один с теодолитом, кепка козырьком, чтобы окуляру не мешать. Приник, рукой второму показывает: левей, правей, еще немного правей. А второй с рейкой поодаль, перемещается. Ни до кого им дела нет, работа у них. Погоди, дедок, не мешай! Работа!
Они его сразу дедком стали звать. Не мешай, дедок, – работаем, понимаешь, нет?
Работа – он понимает, он очень даже уважает, если делом человек занят. Только вот не объяснят ли ему гости – перекур у них, пусть пока и объяснят, – что они тут затеяли?
А тут, дедок, тако-ое будет! Тут, дедок, целый комплекс будет. И тебе кемпинг, и тебе харчевня. На втором этаже харчевня. У тебя же там, дедок, не задействовано?
Вроде как чердак там…
Н-но! Говоришь! А скоро: панелями обобъем, светильники, посуда самая простая. Знаешь, как турики на такое клюют?! Да ты не бойся, дедок! Никто тебя не гонит! Будешь свой хлеб молоть, даже тесниться не придется – чердак-то у тебя никак не задействован. А тут тебе его в конфетку превратят. И все не за твой счет. И мели свой хлеб. Это же экзот! Турики толпой повалят! Первым делом, закордонные: их хлебом не корми, ха-ха, дай поглядеть, как русский хлеб получается. Тебя же, дедок, во всем мире знать будут – турики закордонные с себя последнее снимут, чтобы с тобой в обнимку сфотографироваться. На фоне мельницы. Тебя, можно сказать, увековечат. Тебя как, дедок, звать?.. О! Так и харчевню можно будет назвать. «У Трофима». Только, дедок, это предварительно, это не мы решаем – другие инстанции есть: название еще согласовывать и согласовывать. Ну, а теперь, дедок, ты нам опять не мешай… Давай, Колян, вставай. Нам на сегодня еще ого-го сколько успеть надо… Так! Эту деревягу придется потом спилить на фиг…
Мельник выслушал все. Двинул не спеша в сарай – выходит оттуда с большущим дрыном и очень спокойно говорит: «Сейчас я вашей одноглазой трубке ноги ее паучьи переломаю и вам тоже могу заодно, ежели через минуту хоть дух ваш здесь будет. Вам доступно?».