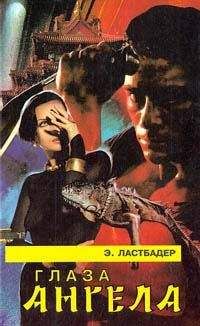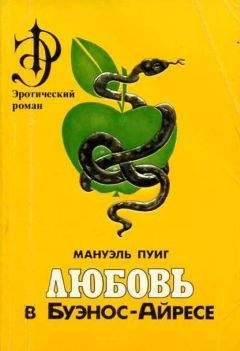Она перестала различать грань между любовью и похотью; сладостные стоны Валерия, исторгнутые из его груди благодаря ее усилиям, потом преследовали ее целый день. Она слышала их и тогда, когда следила за ним и Наташей, и плакала от ненависти к нему и от жалости к себе.
«Ирина, Ирина, Ирина», — повторяла она свое имя словно молитву или заклинание, стараясь убедить себя в том, что Ирина — это она, а не кто-то другой. Женщина перестала понимать, кто она на самом деле, потеряла свое внутреннее "я", свою индивидуальность, и ей никак не удавалось найти себя снова.
Она продолжала встречаться с Марсом, а когда оставалась у него на ночь, то после непродолжительного любовного акта лежала в какой-то прострации, уставившись в потолок, и, прежде чем заснуть, каждый раз обещала себе признаться Наташе Маяковой в обмане и после этого дружить с ней, как дружат все нормальные люди. И каждое утро просыпалась с мыслью о том, что она никогда не сделает того, в чем клялась себе ночью. Что сделано, то сделано, и не было пути назад. Разве избежит она вполне справедливого негодования, которое вызовет у Наташи ее признание? Простит ли ее Наташа? Или никогда больше не захочет ее видеть? Ирина знала, что никогда не осмелится сказать подруге правду. Для нее эта дружба, пусть с ее стороны и не совсем искренняя, имела большую ценность, Ирина боялась ее потерять, боялась встретить кого-нибудь из знакомых в кафе или на улице, боялась, что ее окликнут, назовут настоящим именем, тогда придется во всем признаться. Ирина и ненавидела Наташу, и любила ее, презирала ее за связь с Валерием и сходила с ума из-за этой связи. Ей начинало казаться, что сущность ее разделилась на множество маленьких сущностей, как если бы жизнь была пустой яичной скорлупой, и эту скорлупу ударили о камень, и она разлетелась на мелкие кусочки, и эти кусочки, хотя и являлись раньше единым целым, сейчас никоим образом им не были. Ирина знала, что смута в ее душе существовала задолго до встречи с Валерием. Она никак не могла найти смысл жизни, обрести внутреннюю уверенность, которая присуща людям, живущим в согласии с самими собой и всем миром. Лишь однажды, во время поездки в Америку, в Бостоне, ей показалось, что она нашла то, что так долго и безуспешно искала.
Ей нравилось жить в Бостоне. Она часто наблюдала за студентами, веселой толпой выходящими после занятий из университета, вместе с ними она шла по зеленым улицам Кембриджа, вместе с ними заходила в пиццерию перекусить; покупала себе одежду там же, где и они, слушала ту же музыку, что и они, — музыка эта неслась поздними вечерами из машин, из музыкальных автоматов в пиццериях, из танцевальных клубов.
Как-то раз она неожиданно получила приглашение, как и другие советские сотрудники, на вечеринку в пиццерию. Первоначальной ее мыслью было отказаться, но, поразмыслив немного, она передумала.
В пиццерии стоял ужасный шум. Ирина раньше никогда не была в таком шумном месте, как это. От грохота музыки стакан в ее руке дрожал, и даже челюсти сводило от сильной вибрации звуковых волн. Но все равно чувствовала она себя прекрасно, великолепно, свободно, еще лучше, чем тогда, в кинотеатре, на просмотре фильма «Кто боится Виргинии Вульф?» с неподражаемой Элизабет Тейлор в главной роли. Атмосфера в пиццерии была абсолютно раскованной, доброжелательной, веселой. Каждый говорил, о чем хотел, и смеялся, когда хотел; болтали о ком угодно: о Кьеркегоре и его понимании смерти, о Вуди Аллене и его понимании жизни, о Томе Крузе и его понимании секса. И так далее. Все было забавно, интересно, словом, чудесно. Ирина не испытывала ни малейшего желания уходить с этой вечеринки. Кроме того, она увидела, что на нее обратил внимание молодой симпатичный человек с темно-каштановыми волосами, коротко остриженными у висков и на затылке и длинными на макушке, так что он все время отбрасывал волосы со лба назад. Сознание того, что за ней с интересом наблюдают, приводило Ирину в приятное волнение. Она переходила от одной группки студентов к другой, попеременно принимая участие в их разговорах или просто слушая, и совершенно случайно натолкнулась на того молодого человека, когда он танцевал с какой-то худенькой, светловолосой женщиной. В руке он держал стакан, и от столкновения содержимое стакана выплеснулось Ирине на одежду.
— О, простите меня, — стал извиняться он, — я не хотел. Ради Бога, простите.
— Ничего страшного, это же газировка, — успокоила она молодого человека и, поскольку он все еще стоял, не отводя от нее взгляда, спросила: — Вы разве не собираетесь вернуться к вашей партнерше по танцам?
Потом она встретила его на кухне пиццерии. Было уже поздно, и понемногу народ начал расходиться. Ирина проголодалась и пошла на кухню, чтобы разогреть кусок холодной пиццы в микроволновой печи. За этим занятием ее и застали.
— Вы разве не знаете, — сказал ей молодой человек, — в фольге пиццу разогревать в этой печи нельзя.
Он положил пиццу на бумажную тарелку и поставил ее в печь. Через пару минут пицца была готова, и они с аппетитом съели по большому куску. Сам собой завязался разговор.
— Вы русская, насколько я понимаю?
— Да.
— Вы прекрасно говорите по-английски. Хотелось бы мне говорить так же хорошо по-русски.
— А вы знаете русский язык? — спросила Ирина на своем родном языке.
— Не очень хорошо, так себе, — ответил он тоже по-русски.
— Вам нужно стараться больше говорить, вот и все, — сказала Ирина, снова переходя на английский. У нее самой не было никакого желания говорить на русском.
Неожиданно собеседник Ирины быстро наклонился к ней и поцеловал в губы.
— Я весь вечер мечтал о том, чтобы поцеловать вас, — торопливо объяснил он.
— Неужели вы думали, что этим меня обидите?
— Как я мог предугадать вашу реакцию? Я понятия не имел о том, как вы отреагируете на мой поцелуй.
Ирину словно током ударило: вот оно! Ну конечно же. Она тоже не имела ни малейшего понятия о том, что ей будет так хорошо в Америке! Она не испытывала ностальгии по дому, по Москве. Да и как она могла знать это, если раньше никуда не выезжала из своей страны и не подозревала о том, что существует на свете этот чудесный студенческий городок, в чем-то милый и старомодный, а в чем-то ультрасовременный.
Как же плакала Ирина в ту ночь, вернувшись после вечеринки домой! Никогда больше не сможет относиться она к своей родине так, как прежде! И как ей жить дальше, если она начала сомневаться в том, так ли уж хороша ее московская жизнь, и избавиться от этих сомнений ей вряд ли когда-нибудь удастся. Ей нравилось жить в Америке гораздо больше, чем у себя на родине!
После возвращения в Москву пребывание в Бостоне стало казаться Ирине не более чем сном: и прекрасные наряды, которые она примеряла в магазине, и Марта в исполнении Элизабет Тейлор, и бесконечные пиццы и кока-кола, и очаровательные студенты, и молодой человек на вечеринке, и его поцелуй, и сама вечеринка, — все стало таким далеким-далеким, и каждый день жизни в Москве, наполненный привычными делами и заботами, делал воспоминания все более яркими. Постепенно Ирина вспоминала Америку все реже и реже, но когда видела Бостон во сне, то просыпалась в слезах, как будто ей привиделся город, давно исчезнувший с лица Земли, словно Бостон был загадочным, нереальным, волшебным Авалоном. В конце концов тоска по Америке заглушила в Ирине другие чувства, отошли на второй план отношения с Марсом и Валерием, и единственным местом, где она находила хоть какое-то утешение, стала церковь Архангела Гавриила. Ирина часто приходила туда и, стоя на коленях, молила Бога о том, чтобы он указал ей путь, направил ее, дал хоть немного покоя.
И однажды случилось чудо. Был вечер, моросил противный мелкий дождик. Ирина и Наташа шли по мокрым московским улицам, А потом, скрываясь от дождя, зашли в ресторан «Прага».
Неожиданно Наташа сказала:
— Ты знаешь, самый яркий момент своей театральной биографии я пережила не в Москве, не в России, а в Соединенных Штатах. Я поехала туда по приглашению Центра имени Линкольна, что в Нью-Йорке.
— Я никогда не была в Нью-Йорке, — вздохнула Ирина. Сердце ее колотилось так яростно, что готово было выскочить из груди. Ей захотелось рассказать Наташе о своей жизни в Бостоне, но почему-то она не смогла заставить себя это сделать.
В «Прагу» заходило много иностранных туристов, и поэтому еда и сервис были там неплохими. Кроме того, в ресторане Наташу знали и обслужили быстро. Им отвели столик у окна, и, пока они сидели в ожидании заказа, Ирина смотрела на улицу, на мокрый тротуар, на людей, торопящихся куда-то по своим делам. Она чувствовала себя абсолютно чужой этим людям, мокрым и замерзшим, как будто не крыша и не оконное стекло отделяло ее от них, а целая вселенная. Но если люди, которых она видела, находились в Москве, тогда где же находилась она, Ирина? Может быть, в чистилище или в заключении, в тюрьме, из которой нет выхода?