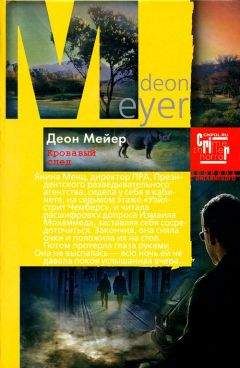— Вот малышка Эстер, — сказал подошедший Слабберт. — Славная девочка.
Она жила в районе Обсерватории. Старый дом после ремонта покрасили коричневой краской — темно-коричневой. На двери и окнах — белые опрятные решетки. Садовая калитка открылась бесшумно. Он прошел по асфальтированной дорожке, между двумя рядами цветов. Ухоженный садик, аккуратно подстриженный газон. У двери висел бронзовый молоток, но он негромко постучал в дверь костяшками пальцев. В левой руке он держал фотографию.
— Ты ее знаешь, — спросил Гриссел, увидев, как побледнел Яуберт.
Все головы повернулись к нему. Яуберт молчал и смотрел на снимок. Застывшее мгновение. Такой она была семь лет назад. В голове не было ни одной мысли. Она среди мертвецов, невозможно!
— Я ее знаю, — сказал наконец Яуберт.
Сотрудники забросали его взволнованными вопросами:
— Откуда?
— Как?
— Почему?
Рука, держащая снимок, слегка дрожала. Ему казалось, что все вокруг какое-то ненастоящее, как во сне. Иногда во сне видишь человека в таком необычном месте и окружении, что хочется засмеяться и закричать: «Ну и дикие же у меня фантазии!» Но то, что он видел сейчас, не было сном. То, что он видел, было явью.
— Я поеду один.
Де Вит вышел проводить его до машины.
— Капитан, я должен перед вами извиниться.
Яуберт молчал.
— Прошу вас, будьте осторожны, — заботливо добавил полковник.
В тот миг Яуберт кое-что понял про де Вита.
— Да, я буду осторожен, — тихо ответил Яуберт, как будто внушая себе что-то. В нем крепла решимость.
За дверью послышались торопливые шаги — кто-то быстро шел по деревянному полу. Дверь распахнулась; на пороге стояла она.
— Вы рано! — Ее розовые губы улыбались. Она подкрасила их помадой — чуть-чуть, едва заметно. Раньше он ни разу не видел, чтобы она красила губы. Волосы зачесаны назад и заплетены в косу, открытая шея белая и беззащитная, черное платье открывает плечи. Яуберт долго смотрел на нее, словно хотел навечно сохранить в памяти ее образ. Улыбка на ее губах увяла: она заметила, что он не нарядился. Приехал как был — без пиджака, без галстука, в грязной рубашке с закатанными рукавами.
Яуберт молча протянул ей снимок. Ее лицо превратилось в маску. Только глаза… Она не сводила с него умоляющего взгляда. Потом взяла снимок. И тут на нее словно опустилась мрачная тень. Веки медленно закрылись, затем открылись. Она не сводила глаз со снимка. Разжала пальцы — фотография упала на деревянный пол — и отвернулась. Как будто забыла о его присутствии.
Потом отвернулась и пошла прочь. Яуберт смотрел на ее красивые плечи. На них словно свалилась тяжкая ноша. Она шла медленно, с достоинством, не обращая на него никакого внимания. Он шел за ней. Осторожно ступал по половицам. Она скрылась в комнате. Яуберт остался в коридоре. Здесь было светло и пахло ее духами — легкий, нежный аромат. Яуберт топтался на месте, не зная, что делать дальше.
Послышался шорох. Хозяйка вернулась. В руках у нее был пистолет. Правая рука сжимает изящную рукоятку в форме черенка, тонкие пальцы левой руки придерживают длинный ствол. Она несла пистолет как жертву. И казалась особенно хрупкой. Она остановилась, не дойдя до Яуберта нескольких шагов, продолжая сжимать тяжелый пистолет. Потом низко склонила голову, словно ожидая, что палач отрубит ее, и закрыла глаза.
Яуберт невольно сопоставлял улики и делал выводы. Все выходило машинально, само собой. Больше всего ему хотелось повернуться и уйти. Он чувствовал полное опустошение. Он смотрел на нее и машинально представлял судебный процесс. Неопровержимые доказательства вины налицо. У меня все, ваша честь…
Охота закончена.
— Почему?
Она не шелохнулась.
Яуберт ждал.
Он услышал тихий вздох. Едва слышный. Ее маленькая грудь еле заметно шевельнулась. И снова застыла на месте — словно окаменела.
Яуберт осторожно шагнул вперед и положил руку ей на плечо. Она была холодна как лед. Он обнял ее, повел по коридору. Она шла послушно, не сопротивляясь. Он повернул направо, в гостиную. Увидел два больших мягких кресла в цветочек. Сейчас, в сумерках, обивка казалась бесцветной. Картины на стенах в полумраке были просто черными квадратами. Ковер приглушал шаги. Он усадил ее в кресло, поправил подушки. Она наконец открыла глаза. Она сидела прямо, сжимая лежащий на коленях маузер обеими руками. Яуберт упал перед ней на колени:
— Ханна!
Она посмотрела на него — и сразу же отвела глаза в сторону.
Яуберт протянул руку, чтобы взять у нее пистолет, но она сжимала его слишком крепко. Он решил не спешить.
— Ханна!
Розовые губы чуть разомкнулись. Она словно впервые его заметила. Дернулись уголки рта, как если бы она хотела улыбнуться. Потом она опустила голову и стала разглядывать пистолет, который сжимала в руках.
— Странно, — произнесла она так тихо, что Яуберт едва расслышал. — Я всегда страшно его боялась. Когда дедушка доставал его из кожаной кобуры. Он выглядел таким зловещим. Огромным, уродливым. И запах… Когда он расстегнул кобуру, я почувствовала… запах смерти. От него пахло старостью и смертью, хотя дедушка его регулярно чистил. Дедушка что-то мне рассказывал, но я ничего не слышала. Я не отрываясь смотрела на пистолет. Не сводила с него взгляда, пока дедушка не заканчивал его чистить и не убирал. Только потом я переводила взгляд на дедушку. Хотела убедиться, что он застегнул кобуру, убрал пистолет на место.
Она снова посмотрела на Яуберта. Уголки губ опустились, отчего ее рот стал похож на полумесяц.
— Я нашла его среди папиных вещей. Все старые вещи я делила на две кучки. В одну складывала то, что хотела оставить, в другую — то, что пойдет на выброс. Мне так мало хотелось оставить. Его и мамины фотографии. Библию, какие-то документы. Часы. Мешочек я сначала положила в другую кучку. Потом переложила его. Потом снова определила «на выброс». Потом расстегнула пряжки, почувствовала запах и вспомнила дедушку. Тогда я решила его оставить.
Взгляд ее блуждал; в полумраке Яуберт не видел ее глаз. Вдруг она посмотрела на него в упор:
— Я никогда не думала, что когда-нибудь воспользуюсь им. Почти забыла о нем. — Она замолчала; руки разжались.
Яуберт прикидывал, не опасно ли сейчас забирать у нее пистолет.
Она снова как будто забыла о его присутствии.
Яуберт позвал ее по имени, но она не шелохнулась.
— Ханна!
Она моргнула.
— Почему? Почему ты это сделала?
Она глубоко, медленно вздохнула, резко выдохнула и заговорила.
Они хохотали за дверью — все громче и громче, веселее и веселее. Снаружи было ясно и тихо. Великолепная, совершенная ночь. Ярко светила полная луна; звезды казались мерцающей пылью, раскинувшейся от края до края неба. Ни облачка; воздух ароматный, теплый. Эстер Кларк стояла на крылечке лекционного зала. Внизу журчала речка, в воде отражалась желтая луна. Вина в ее бокале оставалось на донышке. Вино было очень сухое, но она смаковала солнечный букет, отпивая каждый раз по крошечному глотку. Она позволяла себе выпить всего один бокал. Ну, может, еще полбокала — потом, когда вернется к себе в номер. В награду за хорошую работу. Группа попалась нелегкая. Разные характеры. Все по-разному относятся к учебе. Разная степень интеллекта. Нелегко было их расшевелить; ей пришлось затратить гораздо больше усилий, чем обычно. Но, несмотря ни на что, она добилась успеха. Каждый из них открыл в себе что-то новое, каждый вырос над собой — правда, некоторые выросли совсем немного, но возможность духовного роста заложена не ею.
Еще год-два такой работы — и она займется чем-то более важным и значимым. Колледж — всего лишь ступенька на пути к вершине, так сказать, временная передышка. Стыдно ей не было. Слабберт платил мало, а требовал от преподавателей много. Трудиться приходилось самоотверженно, с полной отдачей.
Всего год-другой.
Эстер покатала вино на языке, проглотила, насладилась послевкусием. Скорее бы вернуться к себе! Слушателей размещали по двое, они с Кариной ночевали в одноместных домиках. Она сама настояла на уединении по ночам — ее личное время неприкосновенно. Ее ждут книга и музыка. Сегодня перед сном она поставит «Трубадура» — если успеет, послушает первые два акта. «Зачем в ваших операх столько смертей?» — спрашивали даже во времена Верди. «Но разве вся жизнь не есть смерть?» — отвечал маэстро. Она улыбнулась луне, повернулась, открыла раздвижные двери, вошла в зал.
Они сидели вокруг стола и оживленно болтали. Перед каждым стоял бокал. Нинабер произносил речь, а Макдоналд, Феррейра и Кутзе его слушали. Уилсон, ее лучший ученик, единственный из всей группы, к кому она питала слабость, держался чуть поодаль. Уоллес и Карина Оберхольцер уединились в торце стола и о чем-то шептались.