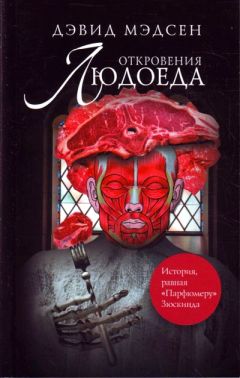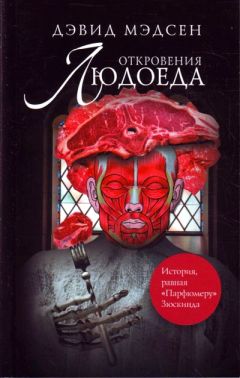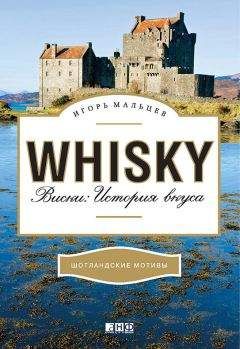Он выражал свои стремления, ведя дневник, или отчеты, или, возможно, делая описание своей жизни — я не совсем уверен, что именно; я всецело одобряю это, так как подобные записи позволят мне гораздо легче получить доступ к его душе. Некоторого рода катарсис, несомненно, необходим; в любом случае, я подозреваю, что процесс будет медленным. Я пообещал 022654, что добьюсь для него выдачи письменных принадлежностей.
Мать является корнем его психоза — это то, в чем я убежден. Он говорит о ней с тихим почтением в голосе, так, как другие могут говорить о Боге, или о любимом человеке, или о некой невыразимой тайне. Он неблагожелательно относится к любому перекрестному допросу, однако корректен и послушен, как скоро дело касается женщины, которую он зовет «Королевой Хайгейта»; он излагает только факты, которые я готов принять за чистую монету: что его мать была образцом женского целомудрия, что она была одарена особой гениальностью, являлась единственной спутницей на протяжении всей жизни, которая полностью его понимала, была жертвой бесстыдной лжи его отца и так далее. Пару раз я пытался углубиться в его «факты», но 022654 становился взволнованным, затем агрессивным, очевидно полагая, что я оспариваю их соответствие действительности.
Я хотел бы больше узнать о его отце, но любые данные следует вытягивать из 022654 с величайшей осторожностью; по моему мнению, налицо все главы учебника «Эдипов комплекс» — например, яркий сексуальный характер его взаимоотношений с матерью, его нескрываемое презрение к отцу — ноя еще не настолько уверен, чтобы поставить недвусмысленный диагноз. Истинная судьба его отца, конечно же, столь же печальна, как и то обстоятельство, что он больше недоступен для расспросов. Я намереваюсь поработать над предположением, что его отец некоторым образом — осознанно или случайно, в зависимости от обстоятельств — критиковал образ матери, который был у ребенка и, делая это, подорвал его чувство связанности с самым базовым слоем жизни. Этот слой для 022654, кажется, был полностью отождествлен с матерью, которая была его помощью, поддержкой, пищей, жизнью. Более того, я не сомневаюсь, что это чувство связанности было совершенно разрушено, когда 022654 отняли от материнской груди; записи, которые я получил из клиники покойного доктора Стивена Маккрэя, указывают на то, что грудь ее начинала портиться после того, как ее покусали во время кормлений.
Хотя я презираю старого мошенника, мне нужно будет перечитать «Пища для инцеста: Материнская Любовь и Поедание Мяса» фон Шилберга.
На чисто личном уровне я не думаю, что 022654 любит меня — дважды во время нашей беседы он обвинил меня в том, что я брызжу на него слюной. Тем не менее, я не думаю, что это будет препятствовать нашей совместной работе; я советую продолжать предписанное 022654лечение на протяжении его пребывания здесь.
Энрико Баллетти.
Отчет зарегистрирован Лучиано Касти, главным офицером медицинской службы.
Я начал свое обучение искусству богов в Отеле Фуллера в Траубридже под надзором влиятельного Эгберта Свейна. Это был человек огромных размеров: Эгберт действительно был чрезвычайно жирным. Он также обладал чересчур экстравагантной индивидуальностью. Когда я первый раз увидел его — совершенно лысого, с выпученными глазами, толстыми губами, со слегка смуглым лицом, прогромыхавшего через кухню и непомерно яростно вопившего (его голос резонировал непристойностями), словно злодей из opera buffa[34] — я был ошеломлен; но, вы понимаете, это был не страх и не трепет, а непреодолимое ощущение нелепости. Эгберт Свейн был на самом деле совершенно нелепым — исключительным его gravitas,[35] единственным, что его притягивало, было кулинарное творчество — и он управлял своим личным королевством со всей потворствующей своим желаниям театральной нелепостью маниакального деспота, ведь кухня настоящего мастера чужда демократии. Его преданность своему искусству, несмотря ни на что, была совершенной и абсолютной, и наблюдать за тем, как он работает, означало преклонение пред алтарем его гения. Он бы не потерпел фальши, равнодушия, и он не мог допустить, чтобы вокруг него были те, которых он считал недостойными его высокого звания. Мы были, с его точки зрения, помощниками, которые служили в храме, в котором он был верховным первосвящёнником.
— Разве среди вас, негодников, нет тех, чья голова не набита поросячьим дерьмом вместо мозгов? — мог прореветь он (это точно его слова, уверяю вас).
Утварь летала по воздуху, словно удары молнии из длани разгневанного Зевса.
— Живи или умри со мной, парень! — кричал он лично на меня. — Живи или умри на моей стороне, и по моей прихоти. Полностью откажись от своей свободы воли ради меня, и я дам тебе божественное умение. Ты понимаешь меня?
— Да, мистер Свейн.
— Ты можешь звать меня Мастером.
— Спасибо, Мастер.
— Я научу тебя всему, чему надо научиться. Я проведу тебя от невежества к пониманию, из тьмы к свету. Взамен я попрошу твое тело и душу. Ты желаешь этого, ты, безрукий молодой подхалим?
Я энергично кивнул головой.
— Да, Мастер, — сказал я. — Я желаю.
И он похлопал меня по правой щеке.
В процессе обучения стало очевидно, что мое тело интересует его гораздо больше, чем моя душа, ибо однажды вечером, когда я собирался уйти с кухни и проделать свой одинокий путь наверх по черной лестнице в комнату, которая была отведена мне наверху в мансарде отеля, я обнаружил, что Эгберт преградил двери — гигантская покрытая потом гора жира, недвусмысленная улыбка расплылась складками по его багровому лицу.
— Как ты думаешь, куда ты идешь? — сказал он.
— В постель, Мастер.
— Могу я спросить, с кем?
— Ни с кем вообще, Мастер.
— Неправильно. Ты идешь в кровать со мной.
— Что?
— Давай, парень! Сделай это, если ты хочешь преуспеть на этом месте. Уловил?
— Думаю, что да.
И пока мы карабкались по окутанной паром и клубами пыли лестнице, он пощипывал мою правую ягодицу большим и указательным пальцем.
Обслуживать Мастера Эгберта было не так уж ужасно, как я мог бы себе представить; на самом деле, у него были вполне обычные требования. Он был невероятно волосат; но больше всего меня впечатлило его огромное брюхо — бескрайний ландшафт, который заволакивали кучевые облака завивающихся закопченных волос, безмерная складчатость, перекрещивающаяся несметным числом маленьких изгибов и стрелок, в которых его телесная влага собиралась, словно жирные лужи после дождевого душа.
— О, радости бесстрастного вожделения.
Я углубился кончиком языка в солоноватые тени его груди, и он промычал в полном восторге:
— Сожри же меня!
Затем он приказал мне выполнить общепринятую последовательность сексуальных действий над ним, описанием которых я не буду докучать вам. Когда перед рассветом он кончил, стащив свои безразмерные запятнанные штаны, словно мешок с избытком кожи, я отправился к раковине и прополоскал свой рот «Свежестью мяты».
С этого времени Господин Эгберт начал демонстрировать заметную личную заинтересованность в развитии моей карьеры; иногда небольшие обещания о продвижении, сопровождающиеся поцелуем в губы, тайно произносились в темном углу холодильного склада:
— Я поставлю тебя на хлеб на следующей неделе, дорогой мой.
— Благодарю вас, Мастер.
— А сегодня ночью тебе выпадет честь отсосать у меня до потери сознания.
— Благодарю вас, Мастер.
Холодильный склад был (и это неизбежно, я полагаю) храмом, в котором я возносил свои собственные частные молитвы этим подвешенным тушам — притягательным и милым, сырым и обильно сочащимся; иногда я стоял пять или десять минут кряду, совершенно без движения, мое лицо прижималось к гладкой испещренной мраморными прожилками плоти, мои ноздри ласкал аромат сгустившейся крови, вызывая восторженное иступленное dulia.[36] И я созерцал иллюзии, которые отражались на сетчатом трафарете моего восторженного воображения. Мой пенис дрожал. По этим причинам я находился в состоянии сильного переживания, и приступала горькая радость страстного желания обучаться искусству и науке самовыражения через плоть. Медленно и похотливо проводя кончиком своего языка по жилистой плоскости мясного бочка цвета темного вина, я жаждал сладости этого контакта между творцом и изначальной субстанцией, который только тот, кто сгорает на пламени гения, может на самом деле знать или постигать.
Между тем, я вынужден был довольствоваться хлебом.