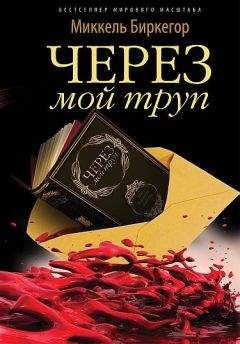После того, как ты проделываешь все это, мой взгляд невольно падает на искалеченную руку. Вероятно, во время последней процедуры с секатором я все же слишком яростно дергался, поскольку несколько сантиметров кожи все-таки оказались содраны, а разрез проходит прямо посередине фаланги пальца. Белизна обнажившейся кости контрастно выделяется на фоне струящейся крови. На полу лежит кончик пальца. На нем по-прежнему полоска пластыря, которую я приклеил несколько часов назад. Я вспоминаю, что тогда это меня развеселило, и выдавливаю из себя пару истерических смешков, однако тут же скриплю зубами от боли.
Поскольку срез получился неровным, прижечь одним-единственным прикосновением утюга его оказывается невозможно, и волна тошнотворного запаха накрывает нас обоих. В самый разгар процедуры ты отступаешь на пару шагов и прочищаешь горло, я же лишен столь счастливой возможности и вынужден давиться кашлем. Залепленный скотчем рот превращает кашель в сипение, от напряжения у меня стучит в висках.
Когда рана наконец перестает кровоточить, приходит черед остальных пальцев.
В какой-то момент я теряю сознание. Не знаю, надолго ли я отключился, но первый звук, который я слышу, придя в себя, это рождественские псалмы. Когда я открываю глаза, то вижу тебя сидящим перед телевизором со стаканчиком виски в руках. В первый момент я не понимаю, где нахожусь, а когда наконец начинаю соображать, меня охватывает паника, и я начинаю биться всем телом, стараясь закричать сквозь стягивающую рот липкую ленту.
Ты нехотя отводишь взгляд от экрана телевизора и внимательно смотришь на меня, как будто пытаясь определить, окончательно ли я очнулся, или снова собираюсь впасть в забытье.
Затем ты поднимаешься, отставляешь виски в сторону и отрезаешь мне все оставшиеся пальцы под аккомпанемент рождественских псалмов и пение девичьего хора, транслируемых из какой-то деревенской церкви.
Подошва утюга стала черной от горелого мяса и запекшейся крови. Я уже притерпелся и свыкся с болью, однако, когда все десять обрезков пальцев оказываются у моих ног, я снова пытаюсь закричать. Быть может, от сознания того, что с потерей этих органов я утратил и собственную личность. Я больше не писатель — ведь теперь нет физической возможности нажимать на кнопки клавиатуры и воплощать свои замыслы на бумаге. Инструменты, верой и правдой служившие мне тогда, когда я причинял боль любимым мной людям, больше не являются частями моего тела. Мои кисти превратились в бесформенные культи с торчащими наружу мясом и костями — обожженные, кровоточащие и распухшие до неузнаваемости. Пусть критики ликуют. Сбылось то, что им больше всего на свете хотелось бы увидеть: Франк Фёнс стал хнычущим уродцем, который не в состоянии больше написать ни единого слова. Пал жертвой собственных омерзительных фантазий. Отныне мир избавлен от моих писательских потуг, пятнающих грязью и позором отечественную литературу.
Мой главный критик дожидается, пока я прекращу свои тщетные попытки издать крик, и одним движением срывает с моего лица скотч. Я не обращаю внимания на боль, однако чувствую, что вместе с липкой лентой с моих губ сдирается кожа. Я ощущаю во рту солоноватый вкус крови. Делаю глубокий вздох, стараясь вобрать в легкие как можно больше воздуха, закашливаюсь и сплевываю кровь.
Внезапно у тебя в руках возникают клинья. Последние пару дней я потратил на то, чтобы подобрать подходящие деревянные клинья-распорки. В качестве исходного материала я использовал полку из кухонного шкафа, распилил ее на треугольники и тщательно обточил их напильником. Треугольники должны были быть правильными, достаточно большими, но при этом полностью входить внутрь.
Предварительно сглотнув слюну несколько раз, я широко раскрываю рот. Ты заталкиваешь в него одну из распорок с левой стороны с такой силой, что чуть не сворачиваешь мне челюсть. Я пытаюсь застонать, насколько это вообще можно сделать с раскрытым ртом. Другую распорку ты загоняешь с правой стороны и забиваешь ее до отказа тыльной стороной ладони. Губы мои растянуты настолько, что у меня создается ощущение — еще немного, и они лопнут, как гнилая резина.
Ты нагибаешься и поднимаешь с пола пассатижи. Они перепачканы кровью, блевотиной и выскальзывают из твоих, затянутых в перчатки рук. Ты снова подбираешь их и тщательно вытираешь пассатижи и перчатки тряпкой. Во рту у меня скапливается слюна. Сглотнуть ее я не могу и поэтому наклоняю голову, так, что она струйкой стекает по моей нижней губе на подбородок. Ты кладешь мне руку на лоб и запрокидываешь голову. В другой руке у тебя пассатижи, которыми ты, примериваясь, осторожно постукиваешь по моим передним зубам. Удары металла о зубную эмаль заполняют все мое сознание. Я закрываю глаза.
Большим пальцем ты упираешься в мое прикрытое веком глазное яблоко, а ладонью придерживаешь лоб. Я чувствую, как пассатижи смыкаются на одном из моих передних зубов, а твоя нога вновь становится на сиденье стула между моих коленей. Ты начинаешь давить на зуб, и он трещит, а когда наконец следует рывок, раздается неприятный характерный хруст, с которым корни зуба выламываются из челюсти. Моя голова резко откидывается назад. Я со стоном возвращаю ее в прежнее положение. Исходящая от рук боль заглушает все прочие ощущения, так что я просто ощупываю языком передние зубы и констатирую, что одного из них не хватает. Десна разворочена в клочья, а во рту начинает скапливаться кровь.
Я не успеваю опорожнить рот. Ты снова склоняешься ко мне, запрокидываешь мне голову назад и накладываешь клещи на следующий зуб. Кровь течет мне в горло, я давлюсь и кашляю. Брызги крови вылетают изо рта и оседают на щеках. Очередной рывок — и голова опять стремительно отлетает назад.
На этот раз я не теряю времени и сразу же нагибаюсь. Кровь хлещет изо рта, заливая брюки. Отверстия, в которых сидели вырванные зубы, пылают огнем, как кратеры вулкана.
Ты отходишь к печке, наблюдая, как я пытаюсь избавиться от заполнившей рот крови. С ней смешиваются слюна и мокрота. Все это образует некую вязкую, клейкую массу, которая свисает у меня с подбородка. Голова у меня раскалывается, челюстные мускулы ноют от столь долгого напряжения.
Проходит пять-десять минут, прежде чем кочерга нагревается до нужной кондиции. Ты немного неуклюже хватаешь меня за волосы и удерживаешь голову, одновременно прижигая раскаленным металлом верхнюю челюсть. Раздается шипение. Кочерга случайно касается верхней губы, и я чувствую, как она лопается. Жар невозможно терпеть, и я с такой неистовой силой откидываю голову назад, что в руке у тебя остается клок моих волос. Ты раздраженно трясешь рукой, стряхивая их с пальцев, как остатки скотча, которые никак не желают отлепляться.
Моя голова бессильно мотается из стороны в сторону, я то запрокидываю ее, то роняю на грудь. Мне трудно сосредоточить внимание и понять, что происходит вокруг. Я проваливаюсь в какое-то забытье. Не знаю точно, но, по-видимому, от чрезмерных физических перегрузок в моем сознании происходит своего рода короткое замыкание. Тем не менее сквозь пелену застилающих глаза слез я замечаю, что ты снова занялся моим ртом. Покончив с верхней челюстью, ты переходишь к нижним зубам. С ними ты не церемонишься — не выдергиваешь каждый, как верхние, а, взяв молоток, одним мощным ударом вбиваешь их все мне в рот. Судя по звуку, челюсть у меня треснула. Острая боль пронзает все тело, свет в глазах на мгновение меркнет, а затем следует яркая вспышка, похожая на блик фотокамеры. Я наклоняюсь и освобождаю рот от заполнивших его зубов и крови. Когда ты приближаешься с раскаленной кочергой, чтобы прижечь мою открытую рану, я воспринимаю это почти что с благодарностью.
Слава богу, что в комнате нет зеркал. Тем не менее я могу отчетливо представить себе собственный рот: зияющее отверстие, заполненное месивом из изувеченной, кровоточащей и обгорелой плоти, из гущи которой, как рыльце какого-то цветка, торчит целый и невредимый розовый язык.
Охватившее меня тупое оцепенение тебя явно не устраивает. Ты берешь со стола зеленый пластиковый пузырек с нашатырем. Острый запах аммиака ударяет мне в ноздри, заставляет выпрямиться и распахнуть глаза. Я вижу, как ты вооружаешься клещами и ножницами для подрезания крыльев домашней птице. Я невольно пытаюсь отвернуться, однако ты не позволяешь мне этого — клещи уже проникли мне в рот и стиснули язык. Резко потянув его вверх, к потолку, ты заставляешь меня запрокинуть голову. Отсутствие во рту зубов облегчает тебе задачу, и ты делаешь в языке V-образный вырез. Кровь в очередной раз заполняет мне рот, однако я этого почти не замечаю. Мое внимание поглощено созерцанием обрезка языка, который ты аккуратно кладешь на сиденье стула между моих коленей. Правда, из-за покрывающей его крови почти невозможно понять, что это такое.