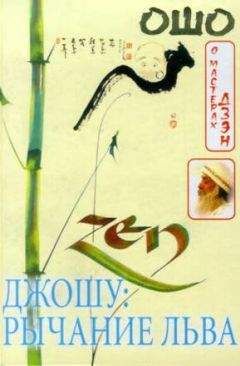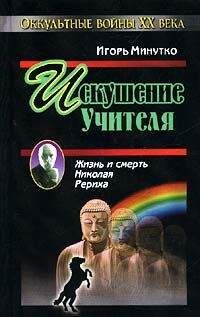— Был я сейчас в больнице. Пустили меня…
— К маме? — встрепенулся Федя. — Чего она? Плохо, да? — И голос его вдруг стал тоненьким, как будто не его, а Любки-балаболки голос.
— Да нет, Федюха! Лучше нашей мамке. Перевели ее в барак для выздоравливающих. Однако еще, говорят, недельки две-три продержат. И вот договорились мы с ней… — Отец помедлил, улыбнулся.
— Ну? — прошептал Федя.
— Возьмем мы тебя с собой, на фронт.
— Ура-а! — закричал Федя и бросился к отцу на шею.
— Только будешь ты во втором обозе. Повару помогать. И из второго обоза — ни на шаг. Матери я обещал. Понял?
— Да… — И тут Федя заплакал вдруг и уткнулся в жесткую отцовскую щеку.
Потом трое взрослых, таких хороших мужчин, посмотрев друг на друга и с облегчением вздохнув, ушли из тесной комнатки с табличкой «Коммунист» на двери, и Давид Семенович сказал уже через порог:
— Там на столе есть кое-что. Закуси. Дядя Петя добавил:
— И поспи немного. Перед дорогой необходимо. Федя услышал, как Давид Семенович весело запел в коридоре:
На столе под газетой с большой статьей «Картофельный фронт» лежал на тарелке кусок холодной вареной баранины с прожилками, похожими на стекло, две серые лепешки, в стакан с откушенным краешком был налит домашний квас, и в нем плавала крохотная соломинка. Давно Федя не ел такого вкусного обеда. Поев с аппетитом, он лег на диван и закрыл глаза.
У Феди было и грустно, и легко, и как-то ново на душе, наверно, потому, что ждала его неизведанная жизнь, дальние дороги и испытания.
Когда Федя проснулся, на столе уже горела керосиновая лампа, темнота безлико прильнула к окну, Давид Семенович что-то быстро дописывал за столом, а перед диваном стоял отец.
— Одевайся, Федюша,- сказал он. — Отряд уже весь на улице. На вокзал идем.
— Выступаем? — Федя пружиной вскинулся с дивана.
— Выступаете, брат. — Давид Семенович перестал писать. — Торопиться, Дмитрий, надо. Вон уже больше часа ночи.
— Да, пора, — сказал отец. — Быстрее, Федор.
Идет по ночным чутким улицам отряд. Морозную тишину будит тяжелый шаг. Где-то впереди крикнет иногда отец:
— Левой! Левой! Левой!
И Федя старается шагать левой, но никак не попадает в общий ритм — ноги у него все-таки еще маленькие. Потом он ведь рядом с художником Нилом Тарасовичем пристроился, а у него вон шажищи какие — два Фединых, это уж точно.
Идет по городу рабочий отряд. Ночь. Еле-еле светится небо над крышами. Первый легкий мороз бодрит кровь. Идет отряд защищать пролетарскую революцию, насмерть стоять за первое в мире государство рабочих и крестьян. Идет отряд…
— Левой! Левой! Левой!..
И Федя Гаврилин тоже в этом отряде. И хоть нет у него винтовки, он тоже будет сражаться с беляками.
— Левой! Левой!..
Киевская; белоколонный дом имени Карла Маркса, в котором раньше жил губернатор; площадь Свободы; длинная, грязная, тесная улица — ее так и не успели переименовать, и она называется Ездовой. И вот — вокзал.
Он встречает отряд шумом, суетой, свистками паровозов. Где-то далеко играет оркестр. И костры горят в разных концах Вокзальной площади, у костров сгрудились люди с винтовками, люди в солдатских шинелях, в гражданских пальто, в ватниках, перепоясанных пулеметными лентами. Косматые огромные тени мечутся по площади. Пахнет дымом, паровозной гарью, конским теплым навозом. Кто-то орет истошно:
— С Оружейного! С Оружейного! В третью залу и дитя-а!..
Где-то поют:
Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног…
Федя видит, как на молоденьком парнишке в шинели не по росту висит красивая растрепанная девушка, и не кричит она, а воет:
— Не пущу-у… Не пущу-у…
Парень с пьяным лицом играет на гармошке, и около него в странном танце, пронзительно повизгивая, кружится несколько женщин.
— Товарищ Гаврилин! — кричат откуда-то. — Где вы?
— Тут! — откликается впереди отец. — Тут мы!
— Пришли? — обрадованно кричат опять. — Золото вы мое! Немедля прямо через вокзал и на первый путь. Эшелон уже подан.
— Есть! Товарищи, не отставайте! Через вокзал на первый путь!
— Давай, Федор, руку. — Нил Тарасович до хруста сжимает Федины пальцы. — Потеряешься здесь в этой каше, дьявол их расшиби!
Они идут к широким дверям, и вокзал поглощает их…
Вокзалы, вокзалы неповторимого девятнадцатого! Как бы ни сложилась Федина жизнь, что бы ни было в ней яркого, необычайного, удивительного, он никогда не забудет вас, вокзалы грозного девятнадцатого года…
Зал ожидания теряется в голубоватом махорочном дыму, и потолка не видно в нем; только там, высоко, как бледные бессильные луны, светят слабые лампы. Сначала здесь невозможно дышать, и Федя мучительно кашляет.
— Ты ртом, ртом воздух хватай! — кричит Нил Тарасович.
Он кричит, потому что иначе Федя не услыхал бы его: зал туго набит голосами, песнями, руганью, плачем, храпом, всевозможными шумами. Кругом люди, люди, люди. С мешками, с узлами, с чемоданами, с корзинами. С мешками, с мешками, с мешками… Люди сидят и спят на лавках, на полу, на подоконниках. Усталые, изможденные, бессмысленные, озабоченные, задумчивые лица…
И вдруг Федя видит: спит на лавке, уткнувшись в угол, человек в ватнике, и по ватнику ползают вши, серые, омерзительные, кажется, с какими-то хвостами. Липкая тошнота подступает к горлу.
Отряд пробирается среди тел, мешков, скамеек. Федя осторожно шагает по грязному заплеванному полу, который бурым покровом устилает шелуха от семечек. Кругом шум, обрывки разговоров, выкрики.
— Куды, куды прешь, скаженный? Видишь, дите спит!
— Прощения, гражданочка!
— Родимые! Роди-имые! — голосит баба с потным красным лицом. — Мяшок уперли-и… О-ой… По-могитя, родимы-и…
У буфетной стойки очередь. Через головы виден пузатый самовар невероятных размеров. Он шипит, булькает. Табличка на нем: «Морковный чай».
— Буфетчица, слышь! — кричат из очереди. — По одному стакану лей. Чтобы всем…
У окна сгрудились пацаны, коричневые от грязи и тряпья, в которое они одеты. Федя видит, как один из них, постарше, с сильным, красивым лицом, показывает глазами другим на мужика, который заснул у своего мешка…
— Не отставай, Федор!
Почему у Нила Тарасовича такое взволнованное и веселое лицо?
— Натура, Федор, какал, тысяча дьяволов, натура!
«Что за натура такая?» — недоумевает Федя.
— Ай! Ведмедь треклятый! Сапожищем руку отдавил!
— Деникин-то уж в Ефановском уезде…
— Не могет быть!
— Я что? Люди говорят.
— А ты уши развесил — «говорят».
Внезапно люди молча, толкая друг друга, шарахаются в стороны, образуется коридор, и по нему два санитара с зеленоватыми безразличными лицами несут носилки. На носилках — молодой парень. Федя видит его покрытое густым потом лицо с остро задранным подбородком; безумные, непонимающие глаза блуждают по потолку, по толпе. Одна рука парня свесилась с носилок, касается пола, но никто не кладет ее на грудь больного — люди испуганно жмутся, уступая дорогу.
Тиф… И беспокойная, острая, тревожная мысль о матери пронзает Федю: а вдруг и она вот так же, и никто не подходит к ней?.. Федя даже останавливается, пораженный этой картиной. Но нет, ведь отец сказал — поправляется.
— Идем, идем!-тянет его Нил Тарасович.
— Товарищи! Поезд на Древск с запасного пути…
Шум, гвалт, все куда-то ринулись, толкаются, кричат друг на друга, летят через головы узлы. И так удивительно: на чемодане сидит благообразный старик с белой бородкой клинышком и невозмутимо читает толстую книгу. Федя видит корешок: «Анна Каренина». И старика почтительно обтекают люди. Нил Тарасович толкает Федю в бок:
— Представляешь, сюжетик: «Толстой и революция». А? — Он блестит глазами. — Какая натура пропадает!
Наконец они пробились через зал. Отряд проталкивается в дверь на перрон.
А на перроне — ветер, пахнущий паровозной гарью; бегут куда-то солдаты, громыхая винтовками и котелками; костры горят в разных концах — мечутся по ветру языки пламени, как красные знамена; рвется над путями, над темными теплушками плакат: «Да здравствует революционная оборона!» Проводят мимо Феди* лошадей под седлами, лошади испуганно косятся на костер, храпят, и в их глазах отражается огонь. На путях — длинный эшелон из теплушек, и в них уже солдаты, рабочие; из черных провалов вагонов торчат лошадиные морды. Теплушки обступили женщины, девушки.
— Типографские! Третий и четвертый вагоны! — слышит Федя уже знакомый голос.
И они бегут вдоль состава.
Мимо костров,
лошадей,
ящиков с патронами…
Мимо кучек людей…