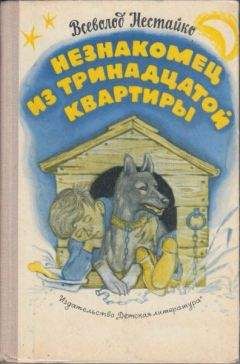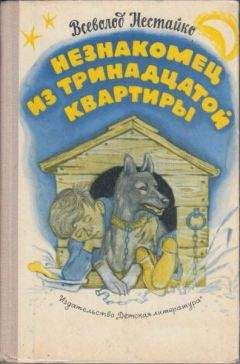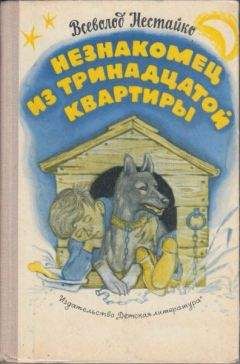Да мы даже не почувствовали. Мы посмотрели друг на друга и засмеялись.
А когда юннаты полезли укреплять плотину и расчищать озерцо от ряски, мы с таким азартом взялись помогать, что вода вокруг нас забурлила, закипела.
То и дело мы бросали на Фарадеевича восторженные, восхищенные взгляды. Вот же человек! Вот человек! Если бы сказал нам сейчас: «Пейте, мальчишки, озеро!» — ей-богу, выхлебали бы до дна!
Вскоре озеро было чистое — ни рясочки. Все вылазят на берег.
Фарадеевич наклоняет термос, и тоненькой струйкой льётся в озеро прозрачная жидкость (что, как выяснилось потом, было «питательной средой», в которой был глобулус). Льётся и журчит. Льётся и журчит. Это журчание кажется нам волшебной музыкой.
— Скажите, пожалуйста,— робко спрашивает Ява,— а какой он будет? Когда примется?
— Какой? Видите этот плёс? Он будет — переливчато-изумрудным, как… как шёлк. Представляете?
Мы закивали головами, хотя я, честно говоря, не очень себе представлял.
— А какой же он на вкус? — послышался сзади голос Бурмило (мы еще раньше увидели его взлохмаченную голову, что выглядывала из «президенции», но нам было не до него).
— Как вам сказать,— обернулся к Бурмиле Фарадеевич.— Сам не пробовал. Но думаю, что похож на салат.
— На салат? Скажите! Выходит, под «Столичную» самое то. Люблю салатики… Дадите хоть попробовать с первого урожая? — И он хрипло загоготал.
— А почему же не дать? Пожалуйста,— так доброжелательно ответил Фарадеевич, что Бурмило смутился: — Да нет, я шучу. Это я так, посмеялся… для смеха.
Мне даже показалось, что он покраснел. Я взглянул на него и подумал: «Неужели вот это шпион? Живой шпион? Тьфу! Какой-то совсем не похожий. Ни в одном фильме не было шпионов, которые краснели. Ни в одной книжке детективной…»
Но Яве я ничего не сказал, не рискнул.
…В тот день в селе только и разговоров было, что про глобулус.
Куда не ткнешься:
— Слышали? Фарадеевич с учениками водоросль на Высоком острове выращивает. Особенную какую-то.
— Говорят, полезная — страх! Витаминов много. Одни витамины.
— А ты что думаешь — космонавтов тебе жмыхом кормить будут?
— А как же, для них самое лучшее придумывают.
— Витамин на витамине сидит и витамином погоняет.
— А по-моему, больше всего витаминов в водке.
— Говорят, сам Попович приедет посмотреть на этот «глобулус».
— …а если на ночь лицо им помазать — на двадцать лет помолодеешь.
— Улыбаться чаще надо — тогда помолодеешь. А ты ругаешься от зари до зари.
— И вообще, говорят, очень питательна. Все сто процентов усваиваются организмом. Отходов нет и на копейку.
Сказал своё слово о глобулусе, конечно, и мой папа. Я и не сомневался, что он скажет. Мой папа — страшный «любитель прессы», как он сам говорит. Без газеты или журнала я его, кажется, никогда и не видел, ест — читает, идет куда-то читает, телевизор смотрит — тоже читает.
С газетой в руке так и засыпает.
И каждый день за ужином он проводит для нас с мамой такую политинформацию — рассказывает, что интересного вычитал за день. Именно от него я и о гитлеровских архивах на дне озер в Австрии и Чехии узнал, и о шпионах с аквалангами, и о многом другом. Столько всего интересного, как мой папа, никто в мире, по-моему, не знает (разве что Степан Карафолька). И этот глобулус (вид хлореллы) был для него как семечки.
— Эта хлорелла же, понимаете, чудо природы! Это же уникальная штука! Такая, понимаете, маленькая, и не увидишь, а большие дела делает. Это же не только еда для будущих космонавтов-астронавтов, это же, понимаете, и воздух, и вода… В прошлом году «Вести» писали про уникальный эксперимент наших ученых, когда целый, понимаете, месяц лаборантка Галя М. провела в гермокабине, воздух в которой постоянно обновляла «оранжерея» хлореллы — поглощала, понимаете, углекислый газ и в процессе фотосинтеза превращала его в кислород. Такой вот, понимаете, круговорот с помощью культиватора хлореллы, правда, с некоторой химической доочисткой, делала и вода.
Тут я папин рассказ должен прервать, потому что больше, не смотря на его «Понимаете», ничего не понял: даже мама только глазами хлопала и хмыкала.
Понял я только одно: что хлорелла — это вещь! И что без неё на другие планеты нечего и рыпаться.
А когда хлорелла — вещь, то глобулус и подавно, потому что он — «вид хлореллы, может, еще и лучший».
Значит, то над чем работает Фарадеевич с юннатами-старшеклассниками — всемирного значения.
И еще я понял, что ничего в этом всем не петрю. Ничегошеньки. Как корова. Понял, что на одной удали, на этом: «Мы всё-таки парни хоть куда! Орлы! Соколы! Гангстеры, а не мальчишки!» — далеко в космос не залетишь. А чтобы петрить, нужно учиться, учиться и учиться. И тут я вспомнил, что через несколько дней — экзамен. Первый в моей жизни экзамен, о котором я из-за всех этих шпионских дел совсем забыл.
Эх, учителя-учителя, завучи и директора! Разве они понимают что-нибудь в шпионах, в героях! Разве они понимают, как же хочется задержать настоящего шпиона и стать героем?! Чтобы о тебе писали в газете, передавали по радио, а то и по телевизору. Разве они понимают!
И не отменят они ради шпиона экзамен, нет, не отменят! Хоть давай им сто шпионов — не отменят ни за что! Эх, учителя-учителя!
И так мне стало тоскливо, что, если бы я был волком, то сел бы посреди хаты и завыл. Но я не был волком, я был пятиклассником. А пятиклассникам выть нельзя. «Непедагогично», как говорит Галина Сидоровна.
И я лишь тяжко-тяжко вздыхаю.
Глава 7
Экзамен. Где Ява? Что с ним?.. Переэкзаменовка…
Волноваться я начал, наверно, еще во сне. Потому что когда проснулся, то, еще не открыв глаза, уже почувствовал, как холодно у меня под сердцем, как оно то бешено бьётся-бьётся, то замирает, неживое, а в это время от затылка по спине аж до пяток бегут-бегут ледяные пузырьки,— словно кто обливает меня холодной водой газированной,— и по всему телу гусиная кожа.
О, как бы я хотел не просыпаться сегодня! Сколько бы я дал, чтобы было уже завтра! Но нет… Я почувствовал тоже самое, когда сидел как-то, ожидая очереди, у дверей зубного врача и слушал, как противно жужжит там, в кабинете, бормашина, а мама крепко держала меня за руку, чтобы я не удрал.
Я начал паниковать уже несколько дней назад.
— Ява! — сказал я.— Ява, друг, нужно что-то делать — повторять, учить, писать шпаргалки. Пропадем же. Экзамен же. Первый в жизни. А экзаменов все боятся. Даже герои. Вот и папа говорил, что боялся. А папа мой — ты знаешь!
Но Ява панике не поддался совсем. Лишь смеялся и говорил «да ну». Словно не экзамен нас ждал, а новогодний праздник.
— Да ну! Не дрейфь, Павлуша! Держи хвост пистолетом! Мы же не какие-нибудь там двоечники-поганцы. Мы способные ребята. Сама Галина Сидоровна говорила. И четверки, и пятерки получали. А если двойки — то больше за шалости и выбрыки всякие. Не дрейфь!
— Ага, не дрейфь! — говорил я.— Это ты просто не задумываешься, что такое экзамен. Легкомысленный ты просто. И всё!
Тогда Ява, прищурив глаз, наклонился к моему уху и, прикрыв рот ладонью, сказал:
— Не забывай, что моя мама — депутат! Это что-то тоже значит!
И он многозначительно подмигивал. А потом добавил:
— Думаешь, так легко поставить двойку? Хе! Не думай. У них же свой план по пятёркам и даже по тройкам. От них же, знаешь, как требуют эти самые… как его… инстанции. Я слышал, Галина Сидоровна моей маме жаловалась. Так вот.
«Что же, ему, и правда нечего бояться,— думал я.— Конечно, его мама — депутат. Конечно. Да и отец — передовик, рационализатор, какую-то штуковину к соломорезке придумал. И на скрипке играет. А сейчас в заграничную командировку они поехали, в Чехию. Всё село провожало. Конечно. А мои родители — обычные селяне. Не депутаты, не рационализаторы, на скрипке не играют, по заграницам не ездят…»
Мне становилось еще грустнее и страшнее. И сердце сжималось от одиночества. Всегда у нас с Явой всё было общее, всегда мы были вместе: и в горе, и в радости, и вкусненьким делились (друг без друга не ели), и оценки одинаковые получали, и из класса нас выгоняли всегда вдвоём… А теперь…
Яве — «Пожалуйста, депутатский сынок, пятерочку вам или четверочку!»
А мне…
Оставалась одна надежда — на эти инстанции, что требуют пятерок. Только эта надежда дала мне силы подняться с кровати, а то бы и не встал.
Вяло, едва двигаясь (руки одеревенели — так бывает, когда ударишься обо что-нибудь локтем), надеваю новую рубашку и праздничные штаны. Выпиваю полстакана молока (больше ничего не могу — всё в горле застревает и не спеша — еще есть время — иду к Яве.
— Ява! — зову через плетень.
Он не отзывается.
«Неужели это у меня нет сил крикнуть?»
— Ява! — кричу, как говорят, во всё горло.