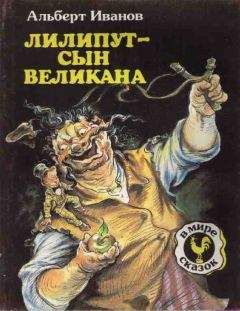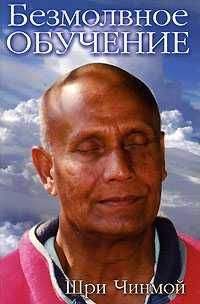Магнум не мог нарадоваться на ловкого мальчонку, благословляя случай, позволяющий наполнять его кассу звонкой монетой.
А Пальчик — много ли ему надо? — радовался своей работе, веселившей маленьких и больших зрителей.
Он по-прежнему не помнил, кто он и откуда.
Жил он в фургоне Толстого и Тощего. Они с удовольствием потеснились ради новичка, поставив ему небольшой диванчик. По утрам и перед сном за чашкой чая они ненавязчиво пытались помочь Пальчику найти своё прошлое.
Толстяк даже придумал игру, надеясь на авось: вдруг мальчонка и вспомнит что-нибудь важное. Игра была такая — клоун называл любое слово, а мальчуган должен был с ходу назвать другое, близкое по смыслу.
— Дом, — говорил толстяк.
— Окно, — мгновенно отвечал Пальчик.
— Крыша.
— Труба.
— Дым, — подмигивал клоун.
— Огонь, — улыбался мальчуган.
— День.
— Ночь.
— Улица.
— Фонарь.
— Аптека.
И так до бесконечности…
Но, увы, даже такая интересная игра не пробуждала у Пальчика нужных воспоминаний. Конечно, дай он в ответ на «дом» машинальное слово «лифт», может быть, тайна и прояснилась бы. А так как заветное словечко не попалось в их хитроумные сети, то и говорить об этом нечего. И вообще, если уж на слово «мама» Пальчик спокойно сказал: «папа», — чем тут мог помочь какой-то «лифт»? Впрочем, неизвестно… Будущее покажет, что мы ошибались.
Однако не будем забегать вперёд событий, это невежливо. Простительно только хозяину Магнуму, который, провоняв весь цирк клубами дыма на арене путём химических реакций, доступных любому нашему школьнику, глубокомысленно вещал будущее каждому заинтересованному зрителю. Своим утробным голосом чревовещателя он сулил всем одно и то же. Старикам — здоровье, молодым — удачу. Девушкам — богатого жениха-спортсмена, юношам — наследство от безвестных родственников. На большее ни у него, ни у тех, кто спрашивал — отдадим ему должное, — фантазии не хватало.
Толстяк попытался разнообразить с Пальчиком игру в слова, придав ей некую последовательность и пытаясь подобраться к прошлому мальчугана по цепочке.
— Шляпа, — говорил он.
— Ветер, — подхватывал Пальчик.
— Понесло.
— Побежал.
— Слон.
— Наткнулся.
— Упал.
— Темнота…
— Пришёл в себя.
— Цирк.
— Замечательно, — потирал руки толстяк и начинал в обратном порядке: — Цирк.
— Пришёл в себя.
— Темнота — упал — наткнулся — слон — побежал — понесло — ветер — шляпа! — выкрикивал толстяк. Пальчик молчал.
— Ну, — настаивал клоун. — Шляпа. Пальчик по-прежнему напряженно молчал.
— Что перед этим?
— Ветер… — наконец тихо произнёс мальчуган. И всё опять начиналось сначала.
— Заедает память, — сокрушался, переживая, тощий. А толстяк не унывал:
— Сейчас допьём чай, пойдём гулять и снова попробуем. Они бродили втроём по ночному старинному городу с его узкими тёмными домами, тесными улицами и застывшими пузатыми автомобилями, на лакированных кузовах которых причудливо дробились огни фонарей.
— Ночь.
— Улица.
— Фонарь.
— Аптека.
Мрак и неизвестность. Прохлада и ветерок…
Цирк шапито стоял на обширной поляне, там, где густой старый лес подступал к зубчатым стенам древней части города. Окружённый крытыми загонами для зверей, походными повозками, передвижными домиками на колёсах, разнокалиберными палатками, сам шапито был похож на шатёр воинственного великана, собирающегося приступом взять крепость.
Весь цирк не поместился бы ни на одной из городских площадей, поэтому и раскинулся на вольном просторе за городскими стенами.
По вечерам здесь празднично звучала музыка духового оркестра, трещали костры, тарахтели бензиновые движки — от них чёрными змеями тянулись кабели к прожекторам внутрь зелёного холма шапито, — трубили слоны, всхрапывали кони, — и Пальчику казалось, что именно здесь его дом и что он прожил тут всю жизнь.
Быстрая слава и немалые — конечно, для маленького человечка — деньги вскружили ему голову. Он не заметил, как изменился даже внешне. У него появились свой портной, свой гримёр и парикмахер, прачка и слуга.
Слугой у Пальчика стал семилетний Гук, тихий глазастый мальчонка. Бездомный сирота, он тоже случайно прибился к цирку и так и остался мальчиком на побегушках. Ведь у него не было никаких талантов. Теперь хозяин Магнум приставил его к Пальчику, приказав выполнять любое желание восходящего на цирковом небе светила. Гук убирал за ним постель, относил бельё прачке, помогал одеваться на представление и заказывал цирковому повару любимые блюда «господина лилипута».
Поначалу Пальчик стеснялся его услуг и сам пытался, например, убирать постель. Но, если он и не помнил, что её обычно убирала за ним мама, привычка забывать об этом, казалось бы, пустяковом деле осталась, и вскоре он уже снисходительно принимал заботы Гука как должное. Будем, правда, и мы справедливы к Пальчику. Хотя он и принимал свою работу за интересную игру, всё же это была работа, причём трудная, и он здорово уставал: два представления в день! Ещё и готовиться надо — выдумывать трюки, тренироваться.
Известно, что только труд возвышает человека. Капризы, барство, высокомерие — а Пальчик стал высокомерным! — принижают любого. Наверно, поэтому он становился всё меньше ростом и, видимо, только ежедневный, напряжённый труд на арене не позволял ему превратиться в ничто. Да, от зазнайства он действительно за иной день укорачивался чуть ли не на полсантиметра. К радости хозяина Магнума, потому что от этого росли доходы. Чем меньше артист, тем больше удивление публики! Уменьшение Пальчика происходило не так уж заметно на первый взгляд, однако для тех, кто снова приходил на представление, допустим, через неделю — а таких находилось немало, — это было поистине удивительным. Сам же Пальчик ничего не замечал.
В редкое свободное время он любил прогуливаться по городу, покручивая в пальцах тросточку. Гук выступал в двух шагах за ним, почтительно нёс его шляпу-цилиндр, а «господин лилипут» благосклонно кивал сбегавшимся зевакам и небрежно раздавал автографы.
Пройдясь по главной улице между шеренгами восхищённо расступавшихся жителей, Пальчик заходил в кафе — всё бесплатно от благодарного за рекламу ресторатора! — и, влезая на высокий табурет у стойки, лакомился мороженым с фруктами из большущей вазы. И лишь мельком удивлялся про себя, что сиденье каждый раз становится выше. А Гук по-прежнему отстоял от него в двух шагах, держа цилиндр на согнутой руке, и тихонько шмыгал носом. Один только раз Пальчик удосужился угостить его ложечкой мороженого, так и не заметив, что с ходу подрос на несколько миллиметров.
Клоуны Толстый и Тощий не узнавали прежнего милого мальчугана.
— С тобой что-то происходит, — как-то осторожно, чтоб не обидеть, сказал ему толстяк. — Высоко берёшь…
— Мне жаль, что ты себя принижаешь, — вздохнул другой.
— Ещё чего! — грубо отрезал Пальчик, не заметив, как тут же уменьшился на сантиметр. — Вы все завидуете моей славе!
И они отступились. Деньги, полученные от Магнума, Пальчик складывал в чулок и прятал его под матрасом. Он завёл себе ширму и, скрываясь за ней от соседей-клоунов, порой пересчитывал на постели свои монетки. А клоуны, услышав за ширмой позванивание, только покачивали головами.
— Какой был мальчик, — сокрушался Толстый. — Мы так интересно с ним играли.
— Не аптека, улица, фонарь, — передразнивал его Тощий, — а деньги, золото, серебро.
Однажды поздно вечером из-за ширмы раздался истошный вопль. Клоуны бросились к Пальчику. Он ошеломлённо держал в руках пустой чулок.
— Украли! Свистнули! Слямзили! — вскричал он. Подозрение его пало на Гука.
— Больше некому! — плакал он, опять уменьшаясь в росте. Допрос слуги вёл сам хозяин Магнум.
— Куда ты дел сто монет?
— Сто две! — поспешно уточнил Пальчик.
— Сто, — возразил хозяин цирка и дипломатично добавил: — Две — ему, если вернёт остальные.
— Я не брал, — всхлипнул Гук.
— Но ты же знал, где они лежали? — наседал Магнум.
— Знал…
— И после этого утверждаешь, что не брал? Знал и не взял?!
— Не взял. Они не мои…
— Кто же берёт свои? Свои хранят, берут чужие! Позвать полицию?
— Не надо! — ещё больше испугался Гук.
— Что, сам вернешь? — подступил к нему и Пальчик.
— Клянусь, я к ним и не прикасался!
— Может, ты видел, как кто-нибудь заходил в фургон, когда тут никого не было? — прищурился Магнум.
— Честное слово! Кроме вас, никого, — наивно ответил Гук.
— М-меня?! — поперхнулся Магнум. — Во-о-он из моего цирка! — проревел он.