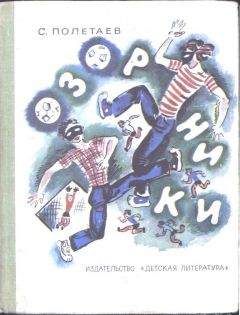И никто в команде не догадывался, что с Дань-кой творится. Все занимались своими делами, возились с коллекциями, убирались, чинили одежду, стирали, купались на стоянках, приветствовали криками проходившие мимо лодки и катера, пугали одиноких рыбаков, стоявших над удочками, – мало ли всяких развлечений в пути! И никому, давалось, не было дела до Даньки.
Но это было не так. Если бы только Данька обратил внимание на Мурзая! А с псом творилось что-то непонятное. Он не лаял на встречные суда, как всегда, не плясал возле Диогена, когда тот вытаскивал из реки щуку или гольца, не прыгал в воду вслед за Иваном, не терся у ног капитана, когда тот выходил подышать влажным ветерком. Мурзай тоже вдруг заскучал. Он неподвижно лежал на корме, иногда вскакивал и тихо скулил, заглядывая Даньке в тоскующие глаза. А когда
Данька усаживался на баке и бессмысленно смотрел на бегущие берега, ничего не видя перед собой, он, изгибаясь, подползал и клал на Данькины кеды свою рыжую, в крапинках, морду и нервно зевал, обнажая желтые клыки и топорща сивые усы. И порой, совсем по-человечьи, тяжко вздыхал, словно желая спросить: отчего ты печален, Данька?
Но Данька, охваченный тоской, не видел его печальных глаз, не слышал его человечьих вздохов. И не догадывался, что это его, Данькино, состояние передавалось собаке, телепатические способности которой Данька обнаружил давно. И как же это Данька, благородный и чуткий человек, умевший читать чужие мысли, не замечал, что творится с псом?!
Однажды после полудня, когда ребята, отобедав, спали в каютах, а Марк вел катер на малой скорости и дремал за рулем, навстречу им проплыл земснаряд, чистивший дно реки и намывавший в старую баржу песок. От причала отделилась лодка и увязалась за катером. На носу ее стоял худощавый парень в низко надвинутой кепке и прикладывал палец к губам – знак Даньке, чтобы он молчал, потом вдруг развернул моток веревки и нахлестом бросил на палубу какой-то предмет.
Данька не понял, что происходит. Один из ящиков, в которых хранились Ванины минералы, заскользил к корме. Мурзай кинулся к ящику, вцепился зубами в веревку, оторвал ее от ящика, но зато сам, тормозя лапами, пополз к краю борта.
Между парнем и Мурзаем завязался странный поединок. Парень тянул веревку к себе, а Мурзай изо всех сил упирался и не отпускал ее. Лодка беспомощно потянулась за катером, как на подводке. Но тут Данька опомнился и бросился на помощь.
– Отпусти! – крикнул он и с трудом разжал Мурзаю пасть.
В воздухе сверкнул металлический зацеп. Парень плюхнулся на дно лодки и показал кулак. Данька стоял у края палубы, пока лодка не скрылась за мысом.
Кто был этот парень – браконьер или просто озорник, – осталось загадкой. Но так или иначе, после этого случая Данька как бы прозрел. Он вдруг увидел Мурзая, которого долго не замечал. И понял, какой это друг. Сердце Даньки наполнилось нежностью. Он обхватил его за шею, прижал к себе и почувствовал, как гулко и радостно колотится собачье сердце.
Данька разволновался и стал вспоминать, как однажды всю ночь искал Мурзая, которого украл «кожаный» человек, и уже под утро нашел ветпункт, куда свозили бездомных собак, проник в барак, где на полу, вдоль стен и по углам, лежали собаки, на которых появление Даньки не произвело впечатления. Иные спали, сбившись, как овцы, иные поднимали морды и зевали, самые же любопытные, встряхиваясь, тянулись к нему.
«Мурзай! – крикнул Данька. – Мурзай! Мурзай!»
И тогда из груды собачьих тел, как из-под кучи одеял, поднялся Мурзай и уставился на Даньку слезящимися глазами. Кажется, он его не узнал. Он словно бы ослеп, оглох и потерял чутье. Он дрожал, как тогда в магазине, когда Данька впервые увидел его, будто снова стоял у прилавка, дожидаясь подачки. Сердце у Даньки сжалось от сострадания.
«Ко мне, Мурзай,!»
И, словно все это произошло совсем недавно, Данька вспомнил, как Мурзай, признав в нем своего спасителя, издал неуверенный вопль – вопль, от которого окончательно проснулись все эти бездомные Пираты, Шарики и Тузики, все эти вислоухие, тощие и кудлатые дворняги, и все они хором завыли, и столько в их вое было тоски по утерянной свободе, что великодушное Данькино сердце дрогнуло.
До этого он жалел одного лишь Мурзая, но теперь сердце его стало таким огромным, таким великанским, что в нем уместилась любовь ко всем бездомным собакам мира. Он думал уже не только о Мурзае – надо было спасать всех обиженных, несчастных, беззащитных собак.
В то историческое утро многим людям – рабочим, шедшим к своим предприятиям; рыболовам, спешившим занять у водоемов самые выгодные места; домохозяйкам, приехавшим на пустырь возделывать свои огороды, – короче говоря, многим жителям, торопившимся по своим ранним делам, в одно и то же время явилось одно и то же видение: в утреннем тумане мимо заброшенных теплиц и ничейных садов бежал долговязый, худенький мальчик, а за ним, растянувшись в цепочку, молчаливо мчалась стая собак. И оттого, что собаки летели, не издавая ни звука, всем показалось, что это мираж – игра тумана, света и тени.
А потом? Потом собаки разбежались, Данька с Мурзаем стояли перед железнодорожным переездом, дожидаясь, пока пройдет товарный состав, и вагоны долго стучали на стыках, и на иных из них, повторяясь, красовалась сделанная мелом надпись:
ПРИВЕТ ТЕБЕ, НАДЯ!
И повторяющийся, торжественный, как клятва, привет неизвестной Наде вызвал в памяти Даньки образ маленькой девочки с белыми бантиками в косичках. И только тогда он понял, что именно она каждое утро задерживалась перед его окном и показывала язык. Именно она очень часто тенью следовала за ним по пятам, а он по своей рассеянности никогда, никогда ее не замечал.
Когда, спрятав Мурзая в подвале, Данька вернулся домой, на пороге его поджидала мама с сумочкой в руке, одетая в болонью. За ней, скрестив руки на груди, стоял учитель Автандил Степанович. Увидев Даньку, Алла Николаевна чуть побледнела и отступила в глубь прихожей. Автандил Степанович посторонился к стене. Данька с независимым видом прошел на кухню и первым делом включил на полную мощь репродуктор. Он взял помойное ведро, незаметно прихватил колбасы и хлеба и под молчаливыми взглядами взрослых неторопливо направился во двор. На помойке он выбросил мусор, затем, обогнув дом, проник в садик и отнес в подвал еду для Мурзая, после чего вернулся домой. Алла Николаевна и Автандил Степанович стояли в тех же позах, словно восковые куклы, а Данька прошел в комнату и уселся за стол, уставленный разными вкусными вещами: колбасой, сыром и печеньем.
Взрослые молча прошли за ним и уселись напротив. Алла Николаевна растерянно смотрела на учителя, и на лице ее отражалась борьба двух чувств: она была растрогана тем, что Данька, не успев войти, тут же помчался выносить мусор, но в то же время боялась показать перед учителем свою слабость и сурово хмурилась. Автандил Степанович сцепил пальцы рук в один огромный кулак и смотрел на Даньку изучающим взглядом. Это был взгляд, которым он обычно высматривал в классе ученика, чтобы вызвать к доске. У него была удивительная способность угадывать ученика, не выучившего урока. И он редко ошибался.
А Данька ел и ничего не слышал. Не слышал, как распекал его Автандил Степанович, как всхлипывала мать, как трещал на кухне репродуктор. Данька смотрел в окно и видел, как в школу бегут ученики, как с балконов кричат мамаши, давая им последние наставления, а тетя Поля из соседнего подъезда бьет в кастрюлю, призывая на кормежку голубей.
Размахивая портфелями, бежали ребята, и среди них была рыжая девочка с белым бантиком в косичках. Она тащила тяжелый портфель, согнувшись, и непонятно было, как она все-таки бежит, а не падает.
Данька очень обрадовался, увидев девочку, и сказал ей мысленно: «Привет тебе, Надя!», а девочка споткнулась, выронила портфель и заплакала. Увидев Даньку, она высунула язык, но вдруг смутилась и помчалась так, словно Данька вздумал поймать ее и поколотить…
Все эти сцены, словно кадры из старого, уже однажды виденного фильма, проносились в памяти одна за другой, пока Данька гладил Мурзая, ворошил его шерсть, и Мурзай благодарно извивался под его рукой и следил за Данькиными глазами. Вдруг, изогнувшись, Мурзай поднялся на передние лапы и лизнул его в лицо. Данька рассмеялся. И сразу понял, отчего ему было так тоскливо все время: просто потому, что, сам об этом не догадываясь, скучал по маме, по Автандилу Степановичу, по Наде и очень жалел, что их не было сейчас здесь. Ему было радостно, но в то же время и печально, потому что радость бывает неполной, если рядом нет родных и друзей. И вдруг нестерпимо, прямо сразу же захотелось написать всем письма и рассказать обо всем, что увидел и пережил. Он, как лунатик, словно под влиянием таинственных сил, отстранил от себя Мурзая, тихо, на цыпочках спустился в каюту, достал тетрадку стихов, потом вышел наверх, уселся под брезентовым навесом и стал думать над первой строчкой…