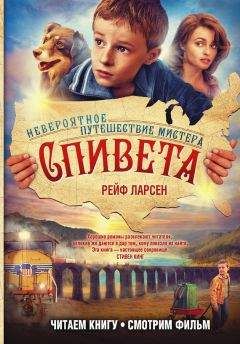Ну ладно, ладно – признаю, сентиментальность заносит меня не в то время. В двадцать первом веке термин «трансконтинентальная железная дорога» уже не разбудит жар переселенческой лихорадки в нью-йоркских денди, как в шестидесятых годах века девятнадцатого – но знаете что? Такая вот технологическая амнезия – стыд и позор. Имей я хоть какое-то влияние на умы средних американцев, уж я бы постарался напомнить им о старых трансконтинентальных магистралях, протяжных вздохах паровых локомотивов, профессионализме, с которым усатый кондуктор смотрел на карманные часы ровно за минуту до прибытия в 10:48. Да ведь железные дороги произвели революцию в самой концепции времени! Целые города подстраивали свой суточный ритм под звук одинокого гудка, а путешествие через всю страну, прежде занимавшее три месяца, стало вопросом нескольких дней.{56}
Была ли моя ностальгия столь же ложной, как ностальгия моего отца? Ему принадлежал мир мифологии, мне – эмпирической науки. В своем пристрастии к железным дорогам я видел не ностальгию, а признание того, что поезда были – да и теперь остаются – технологической вершиной наземных путешествий. Автомобиль, грузовик, автобус – все они лишь заикающиеся братья совершенного локомотива.
Взгляните на Европу! Взгляните на Японию! Поезда – краеугольный камень их транспортной системы. Поезда эффективно и безопасно перевозят множество счастливцев: на пути из Токио в Киото вы можете на досуге подыскивать другие города-анаграммы, изучать разнообразие топографии и экологии центральной Японии, читать мангу, составлять карты ваших странствий, иллюстрируя их персонажами манги… или даже встретить вашу будущую жену – и все это беззаботно и со всеми удобствами переправляясь из пункта А в пункт Б.
Так что когда я остановился на мысли воспользоваться современной американской грузовой железной дорогой, последним оплотом некогда великой индустрии, все разом встало на свои места. Такова была моя версия паломничества в Мекку.{57}
В 5:05 я последний раз обвел взглядом комнату, чем лишь подстегнул ощущение, будто забыл что-то очень и очень важное. Еще секунда, и я начал бы сборы по новой; не дав себе этой секунды, я выскользнул за дверь и спустился по лестнице, стараясь по мере возможности приглушить предательскую дробь, выстукиваемую чемоданом по каждой ступеньке.
В доме все было тихо. Слышалось лишь тиканье часов.
У подножия лестницы я остановился. Оставив багаж там, я поднялся обратно, прыгая через две ступеньки, и тихонько прокрался по коридору к самой последней двери. Я не открывал ее уже сто двадцать семь дней, с двадцать первого апреля, его дня рождения, когда Грейси потребовала провести там маленькую церемонию с веточками шалфея и пластиковыми бусами, которые купила в магазине «все за доллар». Но я все равно оценил ее старания – другие не сделали и этого. Обычно дверь в комнату стояла закрытой, точнее – почти закрытой, потому что сквозняки вечно приотворяли ее на самую крошечную щелочку (выходило, надо сказать, довольно-таки зловеще).
Не знаю даже, почему его поселили именно здесь, на чердаке, столь малопригодном для нормальной жизни: летом слишком жарко и душно, зимой холодно, из-под дощатого пола несет мышиным пометом. Но Лейтон вроде бы не имел ничего против. Свободное пространство он использовал для того, чтобы тренироваться в набрасывании лассо на свою детскую лошадку-качалку. Пока он был жив, вечерами с чердака беспрестанно доносился стук и шум подтягиваемой веревки.
Красная лошадка-качалка стояла в том же углу, что всегда. Если не считать этого безмолвного существа да пустой стойки для ружей в другом углу, в комнате ничего не было. Тут потрудился сперва шериф, потом наша мать, а последним отец – пришел среди ночи и выгреб все, что когда-то дарил Лейтону: шпоры, ковбойскую шляпу, пояс, патроны. Что-то из этого со временем всплыло в Ковбойской гостиной, на алтаре Билли Кида. Остальное исчезло – надо полагать, в каких-нибудь сараях, раскиданных по всему ранчо. Сам отец ничего из этого не носил.
Стоя посреди комнаты, я смотрел на лошадку. Нет, я ничуть не боялся, что невзначай раскачаю ее посредством телепатии. Напротив, мне казалось, что попробуй я подойти и рукой приложить силу, качалка и то не шелохнулась бы.
– Пока, Лейтон, – сказал я. – Не знаю, тут ли ты еще или уже нет, но я на некоторое время уезжаю. В Вашингтон, округ Колумбия. Я тебе чего-нибудь привезу. Шар со снежным вихрем или фигурку качающего головой президента.
Тишина.
– Тут как-то пустовато.
Лошадка-качалка не двигалась. Комната застыла, словно внушительная иллюстрация себя самой.{58}
– Прости меня за то, что я сделал, – промолвил я, закрыл за собой дверь чердака и направился вниз, но на полпути услышал из кабинета доктора Клэр какой-то шорох, как будто два камушка терлись один о другой. Я застыл, даже не опустив поднятой ноги. Под дверью в кабинет пробивалась полоска света.
Я прислушался. В гостиной негромко тикали старинные часы красного дерева, чуть потрескивали балки. И более ничего. Еще одно доказательство моей гипотезы, что после полуночи звуки старого дома более не подвластны обычным законам причин и следствий: балки скрипят по своему разумению, камушки сами собой трутся друг о друга.
Я на цыпочках прокрался к двери в кабинет – та была чуть-чуть приоткрыта. Неужели доктор Клэр встала с утра пораньше, чтобы собраться в поездку на север? Из комнаты снова донесся все тот же шорох. Набрав в грудь побольше воздуха, я посмотрел в замочную скважину.
Никого. Я отворил дверь и вошел. Ох, да как можно входить в чужую комнату без разрешения?! У меня аж кровь в висках застучала. Я бывал тут не раз, но только в присутствии доктора Клэр, а такое вот вторжение ощущалось до боли противозаконным.
Горела только настольная лампа – остальная часть комнаты тонула в неясных тенях. Я обвел взглядом бесконечные ряды энтомологических энциклопедий, блокнотов, ящичков для сбора материала, наколотых на булавки жуков. В один прекрасный день взрослая версия меня обзаведется ровно таким же кабинетом. По центру стола стоял набор шкатулок из красного дерева, уже полностью готовых для поездки.{59}
Снова услышав шорох камня о камень, я наконец осознал, что он исходит из террариума, в котором доктор Клэр держала живые образцы. В полутьме два больших жука-скакуна обходили друг друга кругами. Потом они бросились в атаку – стук столкнувшихся панцирей звучал на диво громко и приятно для слуха. Я понаблюдал, как они несколько раз повторили это представление.
– Ну и чего деретесь? – спросил я. Они посмотрели на меня. Я кашлянул. – Простите. Занимайтесь своим делом.
Предоставив им разбираться самим, я обошел кабинет – кто знает, возможно, я вижу его в последний раз. Провел пальцами по темно-красным корешкам блокнотов. Целый раздел был озаглавлен ЭОЭ – должно быть, заметки о монахах-скакунах. Двадцать лет наблюдений. Интересно, что она имела в виду, сказав, что хочет показать мне свои записи? В чем состоит ее новый проект?
Свет лампы выхватывал из темноты лежащий на столе темно-красный блокнот, из тех, что были посвящены монаху-скакуну. Как будто нарочно…
Внезапно снаружи, за дверью, заскрипели ступени. Чьи-то шаги. В мозгу зазвенели панические сигналы тревоги и – сам не знаю, зачем и почему – я схватил со стола блокнот и опрометью бросился вон. Знаю, знаю, это было самое настоящее преступление. Возможно, худшее преступление на земле – украсть у исследователя данные. А вдруг под этой обложкой хранились последние недостающие сведения? Но мне так хотелось унести с собой частицу моей матери! Да, не спорю – дети ужасно эгоистичные существа.
Однако, как оказалось, это были вовсе никакие не шаги. Какая-то аномалия. Старый дом сыграл со мной очередную шутку. Отлично проделано, старина, отлично.
Оставалось еще только одно. Прокравшись на кухню, я сунул письмо в банку с печеньем. Так его не найдут до ланча, когда Грейси полезет за печеньем, – а к тому времени я буду уже далеко.{60}
Конечно, Грейси, скорее всего, перескажет родителям наш разговор и они в конце концов вычислят, куда я направляюсь. Возможно, даже успеют дозвониться в Вашингтон раньше, чем я туда доберусь, и тогда сцены на ступенях Смитсоновского музея не будет. Однако этот вариант – как и многие другие – был мне совершенно неподконтролен, так что я занес его в графу «Не волнует» и притворился, будто вовсе о нем не думаю. На самом деле тревога просто вылилась в манеру чуть подпрыгивать на правой ноге при каждом шаге – со мной оно всегда так, когда я стараюсь о чем-то не беспокоиться.{61}