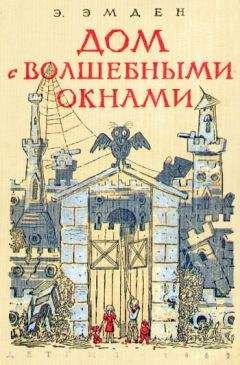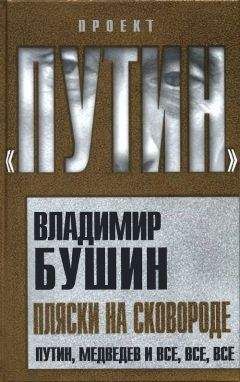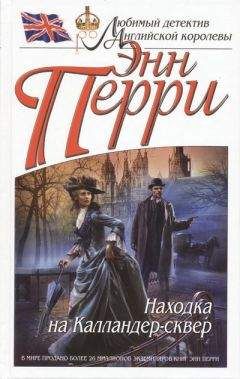Глупо все получилось. Из-за этой сушеной скуки — Вероники Павловны. Все вечера она сидела дома, а сегодня, в такой дождь, заявила, что пойдет к друзьям своего мужа. У нее, видите ли, там дела. Муж оставил у этих друзей какие-то свои бумаги, и она должна их взять. Это важные материалы. Они имеют отношение к его неоконченной диссертации.
— А может быть, завтра, Вероника Павловна? — осторожно спросил отец.
— О, нет, нет! — сказала она.
У нее был маленький подбородок, серые губы и скорбные глаза с нарисованной вокруг синевой. И еще большие цыганские серьги — золоченые полумесяцы. Зачем она, такая интеллигентная особа, таскает в ушах это средневековье, мальчик никак не мог понять.
Он спросил об этом у отца.
— Не твое дело. Нечего хихикать над старшими! — рассердился отец.
Вероника Павловна была женой папиного брата. Брат умер три года назад, а супруга его ежегодно приезжала к ним в гости. Каждый раз она жила в гостях по две недели. Днем она скучала в комнатах одна, а по вечерам заводила разговоры о муже, который так и не написал до конца диссертацию об исследовании каких-то ископаемых рукописей. Не успел. Но все-таки он был кандидатом наук, и Вероника Павловна этим весьма гордилась.
Мама и отец почему-то перед ней робели. Может быть, потому, что они не были кандидатами наук и ничего не понимали в исследовании новгородских грамот, написанных на бересте?
Смешно!
Веронику Павловну считали близкой родственницей, но звали по имени и отчеству. Только мальчик никак ее не звал.
— Почему ты с ней не разговариваешь? — спросил отец.
— О чем?
— Ты вот порассуждай! — пригрозил отец. — Разболтался совсем. Возьмусь я за тебя…
— Ой, — тихонько сказал мальчик.
Такая была у него привычка. Он сам ее не любил. И ребята иногда дразнили: ойкаешь, как девчонка. Но отвыкнуть мальчик не мог. Он по-разному говорил свое «ой»: то с насмешкой, то с удивлением, то с равнодушным зевком, то еще как-нибудь. Иногда громко, иногда шепотом. А на этот раз совсем тихонько сказал. И отец не слышал.
А с Вероникой Павловной мальчик все равно не разговаривал. И она не обращала на него внимания.
Но сегодня ей понадобился зонт. А мальчик сидел у окна и протыкал зонт иголками. Материя была плотной, и после каждого прокола оставалось ровное круглое отверстие. От толстой иголки — побольше, от тонкой — поменьше. Ведь и звезды на небе разные.
Но не всем интересны звезды.
— Это вандализм, — сухо произнесла Вероника Павловна, — так обращаться со старинными вещами!
Зонт был не старинный, а просто старый. Кроме того, было непонятно, что такое вандализм. Но мать и отец взглянули на мальчика так, словно он уничтожил целый сундук ценностей.
— Вы подумайте… Одна, две, три… Он сделал восемь дыр, — аккуратно подсчитала Вероника Павловна.
Созвездие Большой Медведицы было для нее просто дырами!
— Семь, — сказал мальчик. — Одна была раньше.
— Ты поговори! — вскинулся отец. И поспешно обратился к Веронике Павловне: — У меня есть изоляционная лента. Я сделаю заплатки и подклею изнутри.
Вероника Павловна оскорбленно поджала губы: вдове кандидата наук предлагали зонт с заплатками!
— У наших с Дмитрием детей такой поступок не остался бы безнаказанным.
У нее не было детей.
— Это само собой, — заверил отец.
Качая тусклыми серьгами, Вероника Павловна покинула комнату.
— Только и знаешь, что позорить перед людьми! — с непонятным отчаянием произнесла мать.
— «Перед людьми»… — сказал мальчик.
У него были длинные прямые ресницы. Когда мальчик смотрел без обиды, широко и весело, ресницы торчали вверх. Но когда прищуривался, глаза его словно ощетинивались.
Отец, маленький, сердитый и потому какой-то колючий, неумело застучал кулаком по столу:
— Ты порассуждай! Ты пощурься у меня! Ты как смеешь!
— Тише, — умоляюще сказала мама.
— Если бы вам жалко было зонта, — чувствуя закипающие слезы, сказал мальчик. — а то вам ведь не жалко. Вы для нее стараетесь… Боитесь, что ли?
— Молокосос! — тонким голосом закричал отец. — Щенок! Вон!
Нет, мальчик ничего не крикнул в ответ и не хлопнул дверью. Он тихо вышел на лестницу, лег животом на перила и стал смотреть вниз, в узкий черный пролет. Дом был старый, и на лестнице пахло сырой штукатуркой и керосином. Обида царапала горло, и в глазах становилось горячо. Тогда мальчик медленно спустился и вышел под дождь.
Он ничего не имел против того, чтобы простудиться насмерть. Ну, не совсем насмерть, а так, до воспаления легких. Тогда бы все узнали… Но дождь оказался добрым. Он совсем не хотел губить мальчишку. Принял его под теплые струи и постарался растворить обиду. Обида не растворялась, от нее оставался едкий и мутный осадок. Но мальчик был благодарен дождю. Теперь они оказались вдвоем против тех, кто укрывался под зонтами. Правда, таких прохожих было немного, большинство предпочитало плащи. Но мальчик думал о зонтах и видел только их.
Мальчик долго шел по блестящим от воды улицам и ни разу не спрятался в подъезд или под навес книжного киоска. А потом сел в трамвай, чтобы уехать далеко от дома. Здесь-то он и встретил девочку.
— Зонта у меня нет, — сказал мальчик. — А так все очень просто было бы. Надо нанести звезды на зонт, как на карту северного неба, и все в порядке. Потом только поставишь его как надо, и сразу ясно, где какое созвездие!
Он оживился. Обида немного притихла, и снова начинала звенеть в нем радостная струнка. Ведь можно отобрать зонт, но отобрать открытие нельзя.
— Я объясню, как это надо делать, — говорил мальчик. — Главное, запомнить, где Полярная звезда. Это легко. Надо только знать, где север, а потом…
— Ох, подожди, — перебила девочка. — Я же совсем бестолковая! Ты сначала нарисуй, а потом объясняй. По нарисованному.
— Как… нарисуй?
— На зонте, — просто сказала она. — Вот. — Вынула кусочек мела, который есть в кармане у каждой девчонки, чтобы чертить на асфальте «классы». — не обязательно же иголкой. Можно и мелом звезды отметить. Да? Мне такой зонтик знаешь как пригодится!
И как он сам не догадался? Мелом даже лучше! Ведь проколы ночью не увидишь, а меловые точки можно рассмотреть при самом слабом отблеске света. Значит, и пасмурными ночами он сможет отыскать в небе звезды!
Девочка открыла зонт.
— Ты правда помнишь все созвездия?
Мальчик снисходительно промолчал.
— Рисуй, — сказала она.
Но рисовать не пришлось. Мальчик даже не успел взять мел. Мать девочки нависла над ними, высокая и неумолимая, в коричневом плаще с торчащим капюшоном, как инквизитор — грозный и страшный судья.
— Татьяна! Я так и знала. Тебя ни на минуту нельзя оставить одну! Пошли, мы сейчас выходим. Нужно зайти в гастроном. — На мальчика она не взглянула. А девочка взглянула. И, уходя, нарочно громко сказала ему:
— До свиданья.
— До свиданья, — резко ответил мальчик и отвернулся. Ему показалось, что он опять краснеет. А что он такого сделал? Хотел научить девочку узнавать, где какие светят звезды, если их даже не видно на небе…
Мальчик придвинулся к окну. Что-то острое надавило ему бок. Поморщившись, он сунул руку в карман куртки и нащупал кусочек мела.
На конечной остановке, у цирка, мальчик вышел из трамвая. Светлый цирковой купол был похож на громадный серебристый зонт. А под его карнизом сияли длинные, как стеклянные ленты, окна, и в них мелькало что-то цветное, стремительное. Там под защитой серебряного зонта искрилось и звенело пестрое веселье. Наружу выплескивалась музыка, на сразу утихала, будто прибитая к земле тяжелыми каплями. Сильно пахло сырыми досками. Над входом в цирк ощеривали красные пасти громадные фанерные львы дрессировщицы Бугримовой. Львы отсырели и были совсем не страшные, облинялые и грустные, как бродячие коты. Мальчик пожалел их.
Было тоскливо стоять так и прислушиваться к чужому празднику. Мальчик вернулся к остановке и сел на «четверку», идущую от вокзала в Городок Металлургов.
Молодая добродушная кондукторша посмотрела, зевнула и ничего не сказала. Пусть едет человек. Места хватает.
В вагоне было почти пусто. Лишь похрапывал, привалившись к окну, какой-то дядька в надвинутой на глаза кепке да на передней скамейке сидел капитан.
Это был красивый капитан. Он сидел прямо, положив ногу на ногу. Он сидел прямо, положив ногу на ногу. Когда вагон встряхивало, носок сапога покачивался. и по нему бегало отражение лампочки. Было удивительно, что в такую погоду сапоги капитана оставались сухими и блестящими. Все остальное тоже было блестящим: коричневая портупея, пуговицы, козырек фуражки и даже выбритый подбородок. И звезды на зеленом погоне горели желтыми искрами. Вместе они были похожи на среднюю часть созвездия Ориона.
На коленях у капитана лежал потемневший от сырости плащ, а поверх плаща — зонт. Большой черный зонт с выгнутой ручкой. Мальчик смотрел на зонт и не мог решиться сказать капитану. А что сказать, он знал. Он не мог и не хотел больше один владеть своей удивительной выдумкой. Одному ему она не нужна. Всякое открытие, даже самое крошечное, должно радовать других — это мальчик чувствовал. Но он боялся. что не сможет рассказать, как надо.