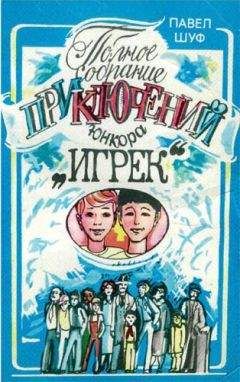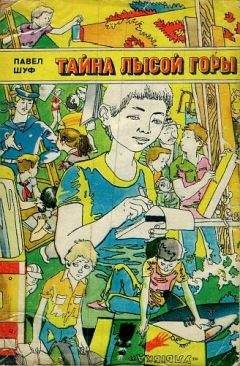Красиво выгибая гибкие, как у пантеры, спины, струились транспортеры. Они переносили изделия от рабочего к рабочему.
Громадный резак — в тысячу раз больше того, которым Андрей в своей фотолаборатории красиво выравнивал карточки — легко кромсал толстые металлические листы. Всевозможные прессы, потеряв уважение к металлу, обращались с ним как с пластилином, придавая заготовкам различные формы. Металл послушно застывал в указанной ему позе — словно пресс играл с ним в забаву по имени «Замри!»
Мы шли по цеху, и прямо на наших глазах рулон анаконды, вползавшей в прессы и механизмы, разлетался на кружки, миски, кастрюли, тазы… И повсюду — над головами рабочих и могучими хребтами машин — пламенели красивые плакаты: «Береги рабочую честь!», «Позор несунам!», «Реки сбегаются из ручейков», «Сорную траву — вон с поля!»
Потом мы вошли в цех, где шла окраска изделий. Пульверизаторы с шипением выдыхали залпы красок. Цветные валики, бесконечно вращаясь, делились с кастрюлями своим рисунком. В огромных котлах с краской купались кастрюли и кружки, другие висели и сохли, а со свежеискупанных сбегала цветная капель.
В цехе было красиво, чисто, весело. Всюду встречались добрые приветливые глаза. Рабочие казались нам волшебниками, факирами, укротителями. Любая настоящая анаконда живо уползла бы в страхе от могучих прессов. Впрочем, что такое живая анаконда
по сравнению с этими бесконечными металлическими рулонами? Из крошки-анаконды, даже самой престарелой, и десятка кастрюль не вышло бы, а из рулона — и не сосчитать. Это в джунглях своей Амазонки могла анаконда командовать парадом и держать в страхе округу, а здесь, в цехе, ей пришлось бы поджать хвост и втянуть голову в плечи. Впрочем, у нее и плеч-то нет. Уж лучше и не высовываться…
Когда мы заканчивали гулять по цеху окраски, к нам присоединился Васька Кулаков. Сам нашел нас здесь. Он выставил большой палец:
— Во!
— Нравится? — спросил я. — Правда, здесь здорово?!
Васька затряс чубом:
— Я про оркестр. Все инструменты погрузил. Легкота, а не работа. Можно ехать.
Чему радоваться, а чему и нет — дело, конечно, лично Васькино. Но плохо, что эти слова его услышала Галина Сергеевна. Она обрадованно захлопала в ладоши:
— Заканчиваем гулять! Все уже посмотрели — всю технологическую цепочку.
— А там что? — спросил я, показывая на окошечко в стене, куда на трех лентах транспортера бесконечно уплывала красиво окрашенная посуда.
Галина Сергеевна с досадой махнула рукой, моя назойливость явно раздражала ее:
— Ничего интересного. Цех упаковки готовой продукции.
Но тут неожиданно встрепенулся Васька:
— Почему неинтересно? Может, здесь самое интересное и есть. Давайте зайдем, — и не дожидаясь разрешения шефини, Кулаков первым зашагал к двери, ведущей в последний цех.
Здесь было царство шорохов. Шуршала бумага, шуршали опилки. Красивая посуда, сверкая как петух на солнце, скрывалась в мягких гнездах из опилок. Все это заворачивалось, забивалось, перевязывалось.
Васька повертел в руках кружку. Она была пригожа и, похоже, понравилась Ваське. С сожалением поставив ее обратно, Васька двинулся к шефине и зашептал ей что-то на ухо, кивая при этом на кружку. Я не слышал, что говорил Васька Кулаков, но она в ответ неуверенно сказала:
— Я попробую. Дело привычное. Гостей мы стараемся не обижать.
Оставив нас, она подошла к мастеру цеха и, жестикулируя, стала что-то объяснять ему. Все выяснилось очень скоро. Подошли две упаковщицы и, избегая смотреть нам в глаза, поспешно протянули каждому из нас аккуратный бумажный сверточек, туго перевязанный бечевкой. Под плотной упаковкой прощупывалась посуда.
— Что это? — удивился я. — Зачем?
Шефиня затрясла руками, прижимая палец к губам и словно целуя его:
— Тихо! Тихо! Это же сувениры. На память о нашей встрече. Сувениры. Я обо всем договорилась.
Только тихонько…
В это мгновение я ненавидел Ваську. Ну и попрошайка…
Мы потянулись обратно. Долгим, тяжелым, мучительным путем.
Мимо ушедших в дело рабочих под плакатами «Позор несунам!»
Мимо пресса близ плаката «Береги рабочую честь!»
Мне показалось, что каким-то странным образом обратный путь был вдесятеро дольше. Словно в тягучем и кошмарном сне мы кружили по цеху и не могли выбраться из него…
Сувенир, не весивший и килограмма, оттягивал руку — как будто был сделан из сгущенной материи черной дыры. Ноги увязали в настиле — словно мы шли не по ребристому металлу, а по липучему напалму, готовому вдобавок еще и вспыхнуть под ногами.
Когда мы наконец выбрались под небо, сердце мое колотилось как пресс. Прислони сердце в эту минуту к металлической ленте — и оно стало бы выколачивать из анаконды миски и кастрюли. Мы боялись встречаться глазами, будто все разом почувствовали себя соучастниками постыдного сговора. Что и говорить — было стыдно. Если бы эти изделия сами сделали… Впрочем, что с того? Мы же крадем их, как воры. Впрочем — крадем ли? Это же сувениры — шефиня так сказала. Но все равно было не по себе…
Весел был только Васька. Он разворошил упаковку и стало видно, что там покоится новехонькая кружка — хоть сейчас наливай в нее пепси-колу.
Галина Сергеевна вскинула руку, глянула на часы и пугливо проговорила:
— Давайте скорее!.. Не то можем не успеть… Скоро Цап-Царап заступит на смену, придется вам тогда сидеть здесь до утра.
Мы переглянулись. Что за диковинное имя?
— Цап-Царап? — переспросил я. — А кто это? Человек?
— Да не человек это, — махнула раздраженно рукой шефиня. — Вахтер наш. Старикашка несговорчивый. Говорю же — скоро ему заступать.
— А почему у него такое имя?
— Что, непонятно? Нос — почище чем у пограничной овчарки. С ним и директор не столкуется, и связываться не станет. Это же не человек, а засов. Ничего из ворот не выпустит — ни чужим, ни своим. Одним словом — Цап-Царап. Кличка у него такая. Еще, между прочим, с войны. Разведчик он бывший… Его уже сколько раз хотели в цех перевести, на какую-нибудь работенку потише, понезаметнее. А старикашка упертый попался, ни в какую не сдвинешь. Здесь, говорит, у ворот моя передовая. Умора… Фронт держит…
— Вы за инструменты боитесь? — догадался я, кивая на футляры, запрудившие сейчас кузов нашего грузовика стараниями Васьки Кулакова.
— С инструментами все в порядке, — сказала она. — Инструменты — по закону, документ имеется в наличии. Я за сувениры беспокоюсь, за сувениры. Ведь Цап-Царап, чудак, может кружечки ваши и отнять. Конфуз выйдет, нехорошо. Можно бы, конечно, и придумать исходящий документик, но долгая это история, долгая.
— А давайте мы их в инструменты спрячем! — хохотнул Васька Кулаков. — Вон какие у них кратеры здоровые. В один геликон все кружки войдут — у него жерло вообще как у вулкана.
— Пока не надо, — метнула ладонью шефиня. — Давайте так попробуем. Я все сама вахтерше объясню, поехали, ребята. Должны успеть. До смены Цап-Царапа еще минут пятнадцать…
Мы заняли места на скамеечке, и Мурад тронул. Подкатили к воротам, и Галина Сергеевна побежала к вахтерше, пропустившей нас сюда. Я люто ненавидел сверточек, сковавший сейчас мои руки и почему-то подчинивший их себе.
Шефиня вернулась быстро. Она улыбалась.
— Все в порядке! Можете ехать. Привет директору! Приезжайте, еще что-нибудь подарим…
Створка ворот оскалилась, и мы вырвались на волю.
Всю дорогу Васька дурачился — колотил ботинком в живот барабана, громыхал тарелками и орал самодельную песенку:
Мы посуду не вернули, Цап-Царапа обманули.
Ай-люли, ай-люли, Цап-Царапа провели!
Пусть узнают все и всюду — утащили мы посуду.
Ай-люли, ай-люли, Цап-Царапа провели!
Я слушал Ваську и тихо ненавидел и его, и посуду, и всех остальных делегатов, начиная с себя.
Мумин Ахмедович встретил нас у ворот. Будто знал, когда приедем. Духовые инструменты мы скорбно внесли в актовый зал и сложили на сцене.
— Чего хмурые? — сощурился директор. — Устали, что ли? Или под дождь попали?..
И не ответишь. Попасть-то попали. Да не под дождь. И разве дождь — самое страшное?
Ночью мне приснился Цап-Царап. Хоть я его никогда и не видел. Он был похож почему-то на Штирлица я телогрейке, но стоял у своих, заводских, ворот, мрачно говорил всем входящим и выходящим из ворот две фразы — «Позор несунам!» и «Берегите рабочую честь». Иногда лез в кобуру за пистолетом, но в кобуре лежала почему-то кружка, а не пистолет. Потом к нему лихо подрулила наша шефиня Галина Сергеевна и стала уговаривать Штирлица перейти на другую работу — «Освободилась, — радостно щебетала она, — должность Мюллера». Страшно колотилось сердце, хотелось крикнуть: «Цап-Царап, не уходи!» Но губы были налиты свинцом. Цап-Царап мотал головой, шефиня не отставала, и тогда он грозно тянулся к кобуре и с удивлением доставал — кружку. Шефиня радостно смеялась.