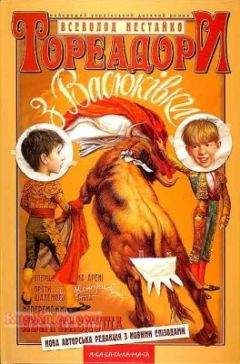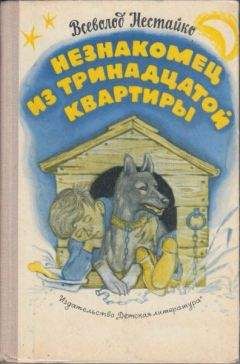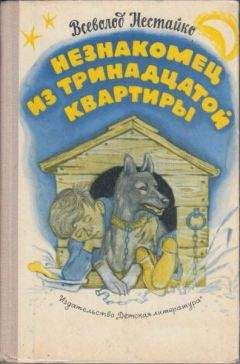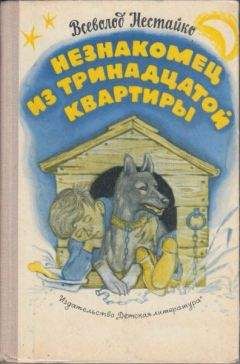— Ча-сы… — бормочу я.
— Что-о?! Убийца! Где ты видел, чтоб дети бедняков до революции носили часы! Ну! Зарубил мне все дубли. Ну! — каким-то плаксивым голосом кричал режиссёр, потом поднёс к губам рупор и уже обычным своим голосом закричал: — Все остаются на местах! Пересъёмка! Пересъёмка! — А потом плаксиво мне:
— Снимай немедленно часы и отдай на берег! Немедленно!
У меня сразу онемело внутри, я опустил голову и сказал:
— Не отдам!
— А?! Что?! — не поверил своим ушам режиссёр.
— Не отдам… Это не мои часы… Они уже раз пропадали. А я их сегодня хозяину отдать должен.
— Так что же, ты мне всю съёмку испортить хочешь?!
— Если так, я лучше сниматься не буду. Я на берег пойду.
Мокрый жандарм, что стоял по пояс в воде недалеко от нас и слышал весь разговор, сказал:
— Ну давай уж мне эти несчастные часы…
— Ого… Какие быстрые! — говорю я и прячу руку с часами за спину, как будто жандарм хочет их силой отнять.
— Не доверяешь? — усмехается жандарм.
Я молчу. — И вдруг жандарм тихо так, тихо говорит:
— А я тебе на пляже доверил… Не побоялся…
Будто меня палкой по спине трахнули — рванулся я и рот разинул.
— Что-о?
— Не узнаёшь? — улыбается жандарм.
Я вглядываюсь, вглядываюсь, вглядываюсь… Нет, не может быть. Не похож ведь совсем. Обернулся я к Яве — он только плечами пожимает; тоже не узнаёт.
Смотрит жандарм вокруг, кого-то глазами разыскивая, остановился взглядом на Людмиле Васильевне в белом халате, кулаком ей погрозил — его излюбленный жест — и крикнул:
— У-у… Размалевала меня так, что хлопцы собственных часов возвратить не хотят.
Вижу — все кругом смеются: и Людмила Васильевна, и режиссёр, и оператор, и все-все, кто на озере. И Валька, вижу, смеётся, и Будка, и Ява уже рот растягивает. Значит, это он!.. Он, наш незнакомец из тринадцатой квартиры!
Ну, я и сам начал улыбаться, а потом и говорю:
— А почему же вы такой… Сказали: «царь, царь…» — а на самом деле обыкновенный жандарм. А мы, дураки, по всему Киеву царя искали.
Ещё пуще засмеялись все.
— Всё правильно, — сказал жандарм-незнакомец. — Что касается царя — никакой с вашей стороны ошибки нет. Царя я таки играю. В этом же самом фильме. И царя, и жандарма — две роли. Это вот Евгений Михайлович так задумал. А вообще извините, дорогие, что я вам столько хлопот задал своими часами. Поверьте, совсем не хотел… Очень я тогда спешил… На репетицию. Мне Максим Валерьянович рассказал про ваши переживания… Что же вы не догадались зайти в милицию пляжа? Я же туда специально забежал — предупредил и адрес свой оставил… — Ну хватит, хватит… — улыбаясь, перебил его режиссёр. — Потом побеседуете. У вас то хорошо кончилось, а вот у меня… Бегите переодевайтесь. Пересъёмка! И всё из-за ваших часов.
— Боюсь, что ничего с переодеванием не выйдет, — вздохнув, сказал царь-жандарм. — Это был последний сухой мундир. — И он двумя пальцами взял себя за край галифе, с которых стекала вода.
— Как?! Клава! (Клава! Где сухие мундиры для жандармов? Чтоб сейчас же мне были сухие мундиры! Жду! Немедленно! Вы срываете мне съёмку!
— Евгений Михайлович! В костюмерной было шесть мундиров. Все шесть подмочены — Клава засмеялась. — Больше взять негде. Нужно ждать, пока высохнут.
— Что ждать? Что ждать? Солнце не будет ждать. Солнце вон уже садится! — кричал режиссёр, хотя солнце ещё и не думало садиться.
— Евгений Михайлович, — спокойно сказал оператор, — я думаю, переснимать нет необходимости… Я уверен, что часов в кадре не было. Я бы их заметил… Вот проявим плёнку, и вы убедитесь…
— А если были?
— Тогда переснимем. Оператору всё-таки посчастливилось уговорить режиссёра, и тот объявил перерыв на обед
— После перерыва снимаем эпизод «Встреча Артёма с Марией».
— Вы, друзья, не убегайте, — сказал нам царь-жандарм. — Я сейчас переоденусь и выйду. Я сегодня больше не снимаюсь. Марию играю не я… Так что не убегайте… Сегодняшний день нам нужно отметить. Максим Валерьянович, вы подождите меня у проходной. Хорошо?
Максим Валерьянович, который уже давно, с третьего дубля, сидел на стуле около тонвагена, закивал, улыбаясь.
Мы пошли переодеваться. А потом подошёл ассистент, тот самый, который приезжал за нами, и вручил нам всем по три рубля. Оказывается, артистам, которые принимают участие в съёмке, платят в день по трёшке. Вот это здорово! Мало того, что ты в кино снимаешься, славу добываешь, тебе ещё и платят за это!
Прощаясь с нами, Евгений Михайлович сказал:
— Спасибо вам, дорогие друзья! За помощь. Молодцы! Создали очень убедительные образы революционно настроенных детей бедняков периода 1905 года. Если придётся переснимать, мы вас вызовем. До свидания!
И он каждому из нас пожал руку. Эти рукопожатия плюс трёшки произвели на нас очень хорошее впечатление. Настроение у нас было блестящее. По-моему, с такого настроения начинается счастье.
У памятника Пушкину Олег Иванович — так звали нашего незнакомца из тринадцатой квартиры — взял такси, и мы поехали. Поехали туда, куда не только «до шестнадцати не…», а, наверное, и «до восемнадцати не…» — мы поехали в ресторан. В тот самый, что стоит на горе над Крещатиком, в наивысшей, как говорят, точке Киева, в ресторан «Москва». И через все шестнадцать этажей поднялись скоростным лифтом на самую крышу.
Весь Киев лежал у нас под ногами. Игрушечные машины и троллейбусы сновали по Крещатику, а на тротуарах суетились какие-то муравьи, а не люди. И видно было так далеко, что, кажется, ещё немного — и увидишь родную Васюковку Мы сели за столик, и к нам сразу подбежала молоденькая официантка, ещё издалека улыбаясь и здороваясь с нами, а вернее, с Олегом Ивановичем и с Максимом Валерьяновичем. Так здороваются только с теми, кого хорошо знают, уважают и любят.
Олег Иванович начал заказывать всевозможные кушанья. Долго заказывал — официантка две страницы в блокноте исписала.
Мимо нас пробежал какой-то дяденька-официант и тоже приветливо поздоровался, кивая Максиму Валерьяновичу и Олегу Ивановичу. Официант держал на руке большой поднос с тарелками, от которых шёл пар и очень вкусно пахло.
— Что это так пахнет? — тихо спросил меня Ява (Мы же с утра ничего не ели — даже про бутерброды свои забыли.) Официантка услышала и повернула к Яве свою улыбку:
— Это шницель. Хотите?
Ява покраснел, как мак. Вышло, что он напросился на этот шницель.
— А как же… Всем шницели непременно. Мы же голодные, как волки! Целый день снимались… — громко, на весь ресторан, сказал Олег Иванович.
Тут уж мы все четверо покраснели — от удовольствия и гордости.
Официантка куда-то побежала и начала носить на наш стол разные бутылки и тарелки.
Мы «кутили» в ресторане, как настоящие взрослые артисты. Мы ели многочисленные закуски: шпроты, сардины, ветчину, галантин (это такая куриная колбаса), салаты, икру, крабы… Ели шницель… Ели пирожные, конфеты и мороженое… Максим Валерьянович и Олег Иванович пили коньяк. А нам дали понемножечку шампанского, от которого на нас только икотка напала. Мы прикрывали салфетками свою икотку и внимательно слушали, что говорил Олег Иванович:
— Позвольте выпить за ваши успехи, юные друзья! За ваши первые шаги по тернистому пути искусства! Того, кто ступает на этот путь, ожидают и великие муки, и великие страдания… и великое счастье. Позвольте выпить за ваше счастье!
Мы позволили.
Мы сидели и украдкой озирались во все стороны. Какие-то усатенькие пареньки и накрашенные девчата, что сидели за соседними столиками, перешёптывались, поглядывая на нас Это была слава. Та слава, о которой мы так давно мечтали. Так вот она какая — слава! Ресторан, столики с бумажными салфетками в вазочках, весь Киев под ногами, галантин, шницель, шампанское и икотка… Хорошо!
Выпив за наши успехи и за наше счастье, Олег Иванович и Максим Валерьянович оставили нас в покое и завели речь о каком то Степане Степановиче, который «ни биса не понимает, извините, в искусстве и только мешает создавать истинно художественные фильмы».
Хоть и был тот Степан Степанович нехорошим человеком, но мы чувствовали к нему благодарность, так как благодаря ему мы могли наконец очнуться от своего счастья и уделить должное внимание пирожным, конфетам и всем тем лакомствам, которые стояли на столе. И всё это было такое вкусное, такое вкусное, что у нас три дня потом болели животы.
* * *
А через три дня, когда выздоровели, мы начали аккуратненько растранжиривать свои впервые заработанные трёшки. Мы их тратили и коллективно — вместе с Будкой и Валькой, и индивидуально — вдвоём с Явой.
Мы с Явой будто переродились после того «съёмочного дня» — ходили погружённые в мечты, задумчивые и как будто сонные.
Нас не интересовали захватывающие игры в густых зарослях возле Лавры (Будка ввёл нас в свою компанию, которая оказалась совсем не зловредной и каждый день играла во что-нибудь интересное). Нас не манили тихие прогулки с Валькой и её подругами.