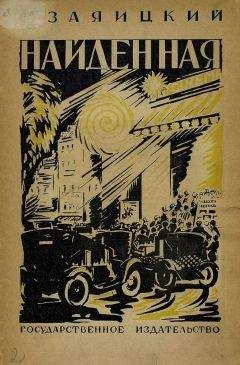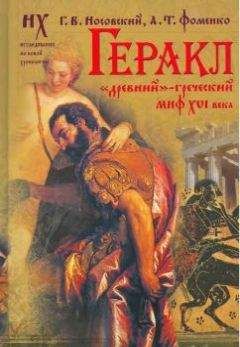— Я бы вас попросил, господин художник, не лезть, куда вас не просят, — сердито прошамкал Колобов. — Это мой племянник, а не ваш...
— Коли вы его выгнали, стало-быть, он никому теперь не племянник. Пойдем, Митя. Я беден, но у меня найдется для тебя и хлеб и масло...
— Хлеб и масло... ночью еще пиры устраивать, сумасшедшие... Не смей к нему ходить, слышишь, не смей. Он тоже вор...
Но, сказав так, старик мгновенно осекся, ибо увидел прямо перед своим носом огромный кулак. Кулак этот при худобе художника производил впечатление арбуза, надетого на палку, и был очень внушителен.
— Он дерется, — пробормотал старик.
— Пока еще нет, но буду драться, если ты отпалишь[1] еще одно подобное словечко. Впрочем, как знаете. Я никого не принуждаю.
И художник повернулся спиной.
— Я иду, господин Арман, — сказал Митя, взяв узелок.
Старик сердито захлопнул дверь и два раза повернул ключ. Потом он сел за стол, взял книжечку расходов и долго что-то вычислял. Лицо его постепенно все более и более расплывалось в довольную улыбку.
— Двести франков экономии, — пробормотал он, — на одной только еде. А если прикинуть башмаки, чулки, белье...
И он опять погрузился в вычисления.
Скупость — страшная болезнь.
Мансарда, в которой жил художник Арман, отличалась от других подобных мансард лишь множеством больших и маленьких наполовину конченных картин, а также сваленными в углу гипсовыми руками, ногами и головами. На мольберте стояла почти готовая картина, поперек которой синей краской написано было «Хлам». Очевидно, художник сделал эту надпись в припадке разочарования в своем таланте.
Впустив Митю, Арман сел на постель и закурил трубку. Затем, кивнув на стол, где стояли остатки убогого ужина, он произнес:
— Ешь. — И, топнув ногой, прибавил: — все ешь.
Митя не отказался, ибо был очень голоден.
— Вы знаете, господин Арман, — сказал он, жуя хлеб с маслом, — я сегодня был в кино на «Красном витязе», и мне показалось, что я видел на экране свою сестру...
— Как? Что ты говоришь?
— Там снят базар в каком-то городе, и вот среди толпы покупателей я вдруг увидал Марусю... Я, право, не ошибся... Разве бывают люди совершенно похожие друг на друга?
— Бывают, конечно, но редко... И ты сразу ее признал?
— Сразу. Ее походка, все ее... Неужели не она?
— Гм. Странный случай. Но ничего невероятного в этом нет. — Ты ее когда видел в последний раз?
— В девятнадцатом году. Мы как раз тогда из Москвы удирали... В Белгороде она от нас отбилась на станции.
— А сколько ей лет было тогда?
— Тогда, да лет восемнадцать. — Вот, помню, ревел я, звал ее... Она мне вместо матери была... Дядя сердился: мол, привлекаешь внимание. Тогда в Белгороде была граница украинская. А потом о ней ни слуху, ни духу... А ведь там самый разгар был гражданской войны. Махновцы, петлюровцы. Едешь в поезде, а со всех сторон зарево. Пушки грохочут. Страшно. А только я не за себя боялся, а за Марусю.
— А была она какая, — спросил художник, — не кислятина?
— Ух, была храбрая...
— Ну, так, может-быть, как-нибудь и в самом деле уцелела. Ты лицо-то ее твердо помнишь?
— Еще бы... По ночам она мне до сих пор снится... Добрая была. Глаза голубые, волосы золотистые...
— Гм. Тебе надо ее разыскать! — вдруг крикнул художник, вдохновенно хватив кулаком по кровати. — Поезжай в Россию. Брось ты всех этих скаредов и сплетников. Как я их презираю!.. Презираю! — заорал он вдруг во всю глотку.
В стену постучали.
— Господин Мазилка, не мешайте спать честным людям.
— Ваша честность мне еще противнее вашей тупости.
— Вы больно умны. Никто ваших картин не покупает.
— Я их и не продаю идиотам.
— Рисуете каких-то уродов.
— К дьяволу!
Он мрачно взъерошил себе волосы.
— Если бы я мог, я бы заложил в метрополитен пироксилину и взорвал бы все это подлое гнездо... Дух разрушенья... а... кха... кха... есть дух созидания... Но мне надо думать не о социальных подвигах, а о могиле. А ты молод... ты силен, и у тебя впереди вся жизнь... Поезжай в Россию... завтра же, найди сестру и... передай, что я восхищаюсь ею.
Митя вздохнул. Он очень любил этого тощего художника, но уж очень тот всегда начинал фантазировать.
— Там, — хрипел между тем Арман, — ты будешь строить новую жизнь. Ты будешь жить среди людей, оказавшихся достаточно умными, чтоб послать к чорту всю буржуазную гниль. Ты будешь трудиться не ради себя, не ради того, чтоб набить себе живот сыром и сосисками, а ради счастья человечества.
— Далеко очень до России... Как доехать?
— И это говоришь ты? Брат той героической девушки, которая сумела пережить все эти годы в центре гражданской войны. Поезжай на вокзал, возьми за горло кассира и скажи: олух, давай билет в Москву.
Но тут художник сам понял, что зарапортовался. Он немного сконфуженно посмотрел на Митю и произнес:
— Ложись спать. Утро вечера мудреней. За ночь я непременно что-нибудь придумаю. Но дай мне слово, что ты не вернешься к этому старому скряге...
— Он меня обидел... все думает, что я краду у него.
— Не смей к нему возвращаться!.. Будь человеком!.. Имей чувство собственного достоинства!
— Но как бы мне узнать, Маруся это или нет?
— Я же тебе сказал, что за ночь я обязательно что-нибудь придумаю. Спи спокойно.
— А то ведь я пропаду в Париже.
— Вздор, ты будешь помогать мне... мыть палитру и кисти... Рано или поздно я продам все эти картины за сотни тысяч... О, как я буду тогда издеваться над этими безмозглыми самодовольными ослами. Они теперь издеваются надо мной, обливают меня помоями, вешают мне на дверь дохлых кошек, а тогда... они будут хвастаться на всех перекрестках, что имели честь жить в одном доме с Пьером Арманом... Ха-ха-ха... Только я-то не нуждаюсь в их похвалах... Все деньги, которые я буду зарабатывать, я буду отдавать на пропаганду мировой революции Я... кха...
Он страшно закашлялся.
— Ну, впрочем, спи... и не смей ни о чем думать. Я все обдумаю. Ты должен собираться с силами на великое путешествие в Россию... видишь, я встаю, когда произношу это слово. Ибо это... а, кха... проклятый кашель. Ну, что же, ты спишь?
— Нет еще.
— Спи. Будь спокоен, у меня уже намечается план... Завтра мы его осуществим.
Митя лежал, глядя на звезды, видневшиеся сквозь окно в потолке.
Вдруг все это происшествие показалось ему дикой и нелепой фантазией.
Неужели он в самом деле видел сегодня на экране Марусю, свою милую сестру Марусю, о которой он так тосковал все эти годы, пока жил с дядей, медленно выживавшим из ума.
А как знать? Возможно. Но что предпринять?
А художник, лежа в постели, смотрел, вытаращив глаза в одну точку, и что-то бормотал себе под нос. Очевидно, придумывал план.
V. ХУДОЖНИК АРМАН ДЕЙСТВУЕТ
Жюль Фар сидел днем в своем кабинете и подводил итоги трех последних дней. Дюру, сидя тут же, пытливо на него поглядывал. На лице директора то и дело появлялась самодовольная улыбка, Дюру раздумывал, как бы перевести на деньги эти улыбки. Десять тысяч хорошая сумма, но такая идея стоит больше.
В дверь внезапно постучались.
— Ну, что еще?
— Простите, господин Фар, там явились какие-то чудаки: мальчик и долговязый человек, худой как щетка. Мы никак не поймем, чего им нужно... Мальчик насчет своей сестры хлопочет, говорит, что вы все знаете...
— Какой сестры? Что за вздор?
— Я им объяснял, что вы заняты...
В это время у двери кабинета послышался шум.
— Я не желаю стоять у двери, словно проходимец... Не имеют права меня задерживать... Я такой же гражданин, как и он...
Началась возня, но дверь кабинета вдруг растворилась, и на пороге появился художник Арман, тащивший за руку Митю.
Он в самом деле напоминал щетку для снимания паутины с потолков. Его волосы взъерошились, глаза сверкали, а руки вертелись, словно на шарнирах.
Жюль Фар вскочил с места.
— Что вам надо? — вскричал он.
— А вот сейчас узнаете, — прохрипел художник, садясь в кресло и вызывающе глядя по сторонам, — обучите ваших слуг более вежливому обращению, господин капиталист.
— Извольте убираться вон!
— Не уйду.
— Я прикажу вытащить вас силой!
— А тогда я убью кого-нибудь вот этой штукой.
Художник взял со стола тяжелую пепельницу.
Все невольно отступили.
— Пошлите за полицией, — сказал Фар.
— Тот, кто первый тронется с места, упадет с проломленным черепом! — трагически воскликнул Арман, взмахнув своей палкообразной рукой. — А теперь идите за полицией.
Фар быстрым движением открыл ящик стола и, вынув револьвер, направил его в Армана.
— Бросайте пепельницу...