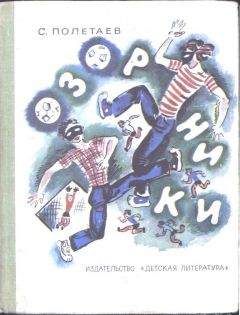Развалясь на мягких подушках пролетки, пан Ваганов катается по оживленным улицам и переулкам города. Для полного парада ему действительно не хватает одного — увидеть вашу радость, дорогие родители! Ваше родительское сердце, не знающее границ в заботах о счастье единственного сына, проглотило бы все обиды и несчастья, которые сыпались на вас по милости вашего шалопая. Он не думал о вашей старости, о ваших трудах и лишениях, когда ушел из дому — куда? Один бог знает куда, если бог только есть. Сын ваш, не оставив своего нового адреса, уехал от вас. И уехал как выяснилось, навсегда, потому что больше вы не видели его. Вы даже не пытались искать его. Разве наше государство такое уж маленькое, чтобы в нем не было места, где можно упрятаться от старых родителей? Но все равно вы бы простили своего сына, увидев его в такой шикарной пролетке…
Но вас уже нет в живых, дорогие папочка и мамочка. Бог прибрал вас в одну неделю. А чем сын отплатит вам за вашу чистую родительскую любовь? О вашей смерти он узнал несколько лет спустя, проезжая город с колонной Автодора. Красная повязка на рукаве и бант на груди свидетельствовали, что Яшка был не кто-нибудь — он был агитатор! Он выступал на базарах, призывая расстаться с вековечной привычкой к оседлости и сесть за руль. Он был хороший оратор, Яшка! Иные таки узнавали в нем бывшего фармазона, но сам он никого не узнавал. Что же вы думаете? Он не мог выкроить время, чтобы разыскать могилку родителей и оросить ее сыновней слезой! Автоколонна прошелестела мимо кладбища и укатила в степь, навстречу гулу времени. Дни были такие, что не до родителей, — время мчалось с курьерской скоростью, надо было торопиться и не отставать. Так и не суждено было увидеть папочке и мамочке, как их сын стал паном и раскатывает сейчас по улицам города, глазея по сторонам.
А глазеть было на что! Все жители высыпали на улицы. Никто не сидел по домам. Не только молодежь, но даже старики и старухи вышли встречать красные войска. Мальчишки бежали за бойцами, размахивая флажками, как саблями. А когда на легких рысях вступила конница, а вслед за ней колонна легких танков, так это была картина! Даже больные встали с постелей и подползли к окнам и махали руками. Бойцов забрасывали цветами, словно это были артисты, а девушки — грех сказать! — целовали этих скуластых, белокурых, веснушчатых танкистов, как своих женихов. Э, что там говорить — все были рады! Даже лавочники нацепили на себя малиновые банты, а хозяева винных ларьков приглашали всех желающих отведать кислого гуцульского вина. Виданное ли дело, бесплатно угощать вином и терпеть такие убытки!
Весь день, пан Яшка, ты ездил в своей пролетке и глазел на красивых девушек, мелькавших в толпе, как яркие цветы. Весь день ты то и дело кого-нибудь подсаживал к себе, и это были главным образом мальчишки, желавшие увидеть уличную кутерьму с высоты второго этажа. Ты подсаживал их, ибо тебе одному было слишком просторно в своей пролетке, а сердце у тебя было широкое, как это людское половодье. Ты подсаживал мальчишек, потому что им на улицах было слишком низко, им надо было только сверху смотреть на этот веселый кавардак и кричать, изображая из себя важных бар. Ах, эти бары, которые вдруг испарились, как привидения! В замогильном сумраке старой жизни засверкал прожектор, вам стало невмочь, и вы разбежались, как тараканы, от света новой жизни…
Тебя то и дело останавливали, пан Ваганов, и просили зайти. Что поделаешь, надо уважать хозяев, угощающих от чистого сердца. Молодого, стянутого ремнями, скрипучего и улыбающегося, всем своим видом воплощающего доброту новой власти, тебя хотели непременно напоить во всех подвалах. Сперва сверху, с птичьей высоты пролетки, потом из прохладных глубин погребов ты познакомился с городом, с его витиеватыми переулочками, с его стройными проспектами позднеклассической архитектуры.
Ты смутно помнишь, что было дальше. Ночью тебя привезли к воротам, и сторож, гремя ключами, закрыл их, а тебя повел за собой привратник, освещая путь фонарем. Тусклые коридоры освещались керосиновыми фонарями, вы шли монастырскими переходами, со стен тебя провожали безумные глаза святых, и ты невольно оглядывался, следуя за привратником, который вел тебя в покои бывшего директора Плучека. Словно вытолкнутый на сцену, ты очутился в просторных покоях и увидел женщину в белом халате.
— Вечер добрый, пан Ваганов…
Это была кастелянша, стелившая на сон грядущий постель. Этой постели, на которой можно было уложить кавалерийский эскадрон, предстояло теперь служить твоим ложем, пан Ваганов. По ночам теперь ты сможешь отогревать на нем свои тощие комсомольские бока. Ты смотрел на гору подушек и мигающий ночник, на вазу с фруктами, не понимая, что это и для кого. Кланяясь, женщина пожелала тебе спокойной ночи и удалилась, звякнув ключами. Все это было похоже на китайское представление. Дверь затворилась, но ты, новоиспеченный пан, все еще стоял перед постелью бывшего пана директора Плучека, так и не пожелавшего дождаться прихода Красной Армии и вместе с женой и дочерьми убежавшего в рай, имевший европейский адрес. Ты чувствовал себя так, словно случайно попал в царскую опочивальню, и подумал при этом, что неплохо-таки спали цари и что такую опочивальню сохранить бы навек и показывать трудящимся, чтобы они видели собственными глазами, как когда-то усердно и мягко спали цари. Ты стоял, пока в твоей голове не утих шум городской толпы, а потом еле добрался до плюшевой софы у входа, вовсе не рассчитанной на то, чтобы на ней спали, но тебе, Яша, знавшему тепло парусиновых коек колонии, мягкость вагонных крыш, простор вагонных буферов и уют угольных ящиков — королевских удобств беспризорников, — тебе не привыкать было спать в скрюченном виде. Стянув с себя брезентовые сапоги, ты прекрасно уместился на короткой софе, укрывшись роскошной гардиной. Ты так и не прикоснулся к постели, на которой мог бы уместиться кавалерийский эскадрон. И спал, спал вечность и один миг, пока усталость прожитого дня не перебродила в твоем молодом теле, и ты проснулся от того, что чихнул, и сам себя поздравил.
Ты распахнул тяжелые шторы, и свет хлынул в глаза от ярмарочной панорамы, раскинувшейся внизу. Город переливался под тобой черепичными крышами, шпилями своих костелов, колоннадами прямых проспектов и сбегающими вниз ручейками кривых переулков. Было еще раннее утро, но дворники уже трудились, прибирая следы вчерашнего праздника — цветы, флажки, бумажные свертки, серпантин и конфетти. Хозяйки с сумками спешили на базар, куда стекались фургоны, тележки и тачки с провизией из окрестных сел и хуторов. Все это ты увидел, пан Ваганов, сидя на подоконнике и попыхивая папиросой «Ява», которую ты бережно — после затяжки — клал на цветочный горшок, чтобы закусить сливой. Вчера, с высоты пролетки, город казался тебе праздничным балаганом, сейчас это был город дворников и домохозяек, монахов и монашек, грузчиков и шоферов, продавцов и покупателей — простой и довольно тихий город европейской провинции, в котором тебе предстояло жить, пан Ваганов, исполняя обязанности директора приюта, доставшегося в наследство от панской Польши…
ПАН ДИРЕКТОР ПРИНИМАЕТ ДЕЛА
Это был странный приют, в котором почти не видно было детей. Они изредка появлялись из каких-то темных закоулков и замирали в полупоклоне, но тут же исчезали, просачиваясь сквозь стены. Это были дети-привидения, дети-тени. В первый день своего пребывания в приюте ты так и не смог рассмотреть их, новоиспеченный пан директор. Стриженые, одинаковые, в балахонах до пят, похожие на послушников, они мелькали, как летучие мыши, беззвучные и неразличимые в сумерках длинных коридоров. Ты не слышал ни смеха, ни плача, ни топота, ни криков — всего того, без чего не бывает детства.
В тот день, впрочем, тебе было не до ребят. Тебе в тот день и без того хватало хлопот. Ты принимал хозяйство, и одна за другой перед тобой раскрывались двери кладовок и бельевых, набитых стоптанной обувью, тряпьем, пропахшим пылью и грязью немытых тел. И еще замки, и еще двери, и еще замки, и еще двери. Ворвань, мясо, распяленные туши, мешки, мешки, мешки. В детском приюте была своя конюшня, своя пекарня, погреба, кузня, швейная, коптильня и даже собственная тюрьма. И все это обширное хозяйство, доставшееся приюту в наследство от монастыря, поступало теперь в твое распоряжение, пан Ваганов.
Помнишь ли ты, как закончился твой первый трудовой день? Ты уже задыхался от дурного воздуха и рвался выскочить на улицу, чтобы проветрить легкие, как вдруг перед тобой вырос смотритель, плешивый старичок с мертвыми, слезящимися глазами, и провел тебя к резному шкафу. Сперва ты ничего не понял. Ты подумал, что тебя снова привели на конюшню, где ты уже был. За тусклыми стеклами шкафа переливались пестрые плети. Глаза тебя не обманывали — это были действительно плети.