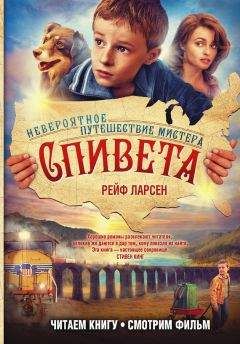– Терри Йорн? – Сперва я не узнал этого имени: так, проснувшись утром, иной раз не узнаешь собственной спальни. Затем постепенно на мысленной карте проступили его черты: доктор Йорн, мой наставник и партнер по «Богглу»; доктор Йорн – огромные черные очки, высокие белые носки, порхающие пальцы, смех, больше похожий на икоту и словно бы исходящий из запрятанного в глубине тела какого-то инородного механизма… Доктор Йорн? Я считал его другом и научным руководителем, а тут вдруг узнаю, что он тайно подал от моего имени документы на премию в Вашингтоне? Премию, учрежденную взрослыми и для взрослых! Мне захотелось убежать, закрыться у себя в комнате и никогда оттуда не выходить.
– Само собой, вы еще успеете его поблагодарить, – продолжал тем временем мистер Джибсен. – Однако всему свое время. Перво-наперво мы просим вас как можно скорее прилететь в Вашингтон, в Замок, как мы его называем – произнести торжественную речь и объявить, чему именно посвятите ближайший год… над этим вам, конечно, еще надо подумать. В следующий четверг у нас будет гала-концерт в честь сто пятьдесят первой годовщины существования института, и мы надеялись, вы станете одним из ключевых участников, поскольку ваши труды отражают наши самые передовые взгляды – наглядная… гм, наглядный научный подход, к которому в эти дни Смитсоновский институт более всего и стремится. В наше время наука и в самом деле переживает огромные трудности, и мы намерены бороться с противником его же оружием… мы должны потрудиться, чтобы завоевать аудиторию… нашу аудиторию.
– Понимаете… – пробормотал я, – на следующей неделе у меня начинается школа.
– О да. Разумеется. Доктор Йорн не предоставил мне вашей биографии, так что ситуация… гм… вышла слегка неловкая, но могу ли я в таком случае прямо вот сейчас и осведомиться, где вы работаете? Мы тут все были изрядно заняты, так что я еще не выкроил времени позвонить президенту вашего университета и сообщить чудесные новости, но позвольте вас заверить, это всегда успеется, даже вот так поздно, в самый последний миг… Полагаю, вы работаете у Терри в университете Монтаны? Знаете, я довольно-таки на короткой ноге с президентом Гэмблом.
Тут только я разом осознал вся чудовищную нелепость происходящего. Я отчетливо увидел, что моя беседа с шепелявым мистером Джибсеном прошла по нарастающей целый ряд недоразумений, основанных на неполной, а возможно, даже и ложной информации. Год назад доктор Йорн подал в Смитсоновский институт мою первую иллюстрацию якобы от настоящего коллеги – и мне, с одной стороны, неловко было принимать участие в обмане, а с другой, эту неловкость перевешивала тайная надежда, что, может, я и в самом деле в каком-то смысле прихожусь доктору Йорну коллегой, по крайней мере, собратом по духу. А потом, когда самую первую иллюстрацию – шмель-каннибал, поедающий другого шмеля – приняли и даже напечатали, мы с доктором Йорном это дело отпраздновали, хотя и украдкой, потому что моя мама так ничего и не знала. Доктор Йорн приехал из Бозмана, дважды преодолев континентальный водораздел (сперва двигаясь на запад по направлению к Бьютту, а потом на юг к Дивайду), забрал меня с ранчо и угостил мороженым в историческом центре Бьютта.
Мы сидели на скамейке, поедали мороженое с орешками и смотрели на холмы, ощетинившиеся силуэтами вышек над устьями старых шахт.{15}
– А ведь когда-то рабочие залезали в эти вагонетки и спускались в них на три тысячи футов. Смена длилась по восемь часов, – промолвил доктор Йорн. – На восемь часов мир сжимался до темного, жаркого, пропахшего едким потом колодца в три фута шириной. Весь город жил сменами. Восемь часов вкалываешь в шахте, восемь пьянствуешь по барам, восемь отсыпаешься в постели. Гостиницы сдавали кровати только на восемь часов, потому что так выжимали в три раза больше. Можешь себе представить?
– А вы бы пошли в шахтеры, если бы жили здесь в те времена? – спросил я.
– А разве у меня был бы выбор? – отозвался доктор Йорн. – Тогда тут водилось не слишком-то много колеоптерологов.
Потом мы отправились к перевалу Паупстон собирать коллекцию бабочек. Некоторое время мы молчали, преследуя шустрых чешуекрылых. Позже, когда мы лежали на траве, рассматривая высокие стебли, доктор Йорн вдруг сказал:
– Знаешь, это все очень быстро получилось.
– Что?
– Многие всю жизнь ждут вот такой вот публикации.
Снова пауза.
– Как доктор Клэр? – наконец уточнил я.
– Твоя мать знает, что делает, – торопливо заверил доктор Йорн и снова немного помолчал, глядя на горы. – Она выдающаяся женщина.{16}
– В самом деле?
Доктор Йорн не ответил.
– Думаете, она в конце концов найдет своего жука? – не унимался я.
Доктор Йорн внезапно метнулся с сачком за можжевельниковой голубянкой, Callophrys gryneus, но промазал. Легкокрылое созданьице унеслось ввысь, словно потешаясь над его стараниями. Доктор Йорн, отдуваясь, уселся на корточки в зарослях хризотамнуса. По природе он был не бог весть какой атлет.
– Знаешь, Т. В., мы ведь можем и обождать, – пыхтя, проговорил он. – Смитсоновский институт никуда не денется. Если ты нервничаешь, нам вовсе не обязательно посылать это все прямо сейчас.
– Но мне нравится для них рисовать, – отозвался я. – Они клевые.
Мы снова помолчали, обшаривая заросли, но бабочек простыл и след.
– Рано или поздно придется ей все рассказать, – промолвил доктор Йорн по дороге обратно к машине. – Она будет гордиться тобой.
– Расскажу, – пообещал я. – В свое время.
Только это самое свое время все никак не приходило. Для всех, кроме самой доктора Клэр, было совершенно очевидно: упорная одержимость монахом-скакуном, которого за двадцать лет так и не удалось обнаружить, сгубила карьеру моей матери и не дала ей внести в систематику все те многочисленные усовершенствования, на которые она, по твердому моему убеждению, была бы способна. Я не сомневался: захоти только доктор Клэр – и она стала бы одним из самых известных ученых мира. Но монах-скакун мертвой хваткой впился в доктора Клэр, и почему-то это мешало мне рассказать ей о моей карьере – карьере, которой не предполагалось вообще, но которая необъяснимым образом расцветала, все набирая и набирая обороты.
Наша тайная переписка со Смитсоновским институтом продолжалась, а вместе с ней продолжалось и двойное жульничанье: родители ничего не подозревали, а редакция в Вашингтоне считала меня доктором наук. При пособничестве доктора Йорна я регулярно рассылал работы не только в Смитсоновский институт, но также в «Сайнс», «Сайнтифик Америкэн», «Дискавери» и даже «Иллюстрированный спортивный журнал для детей».
Проекты мои были самой разной направленности. Встречались среди них иллюстрации: колония работящих муравьев-листорезов и многочисленные разноцветные чешуекрылые; развернутые анатомические схемы устройства кровеносной системы мечехвоста, выполненные на уровне электронной микроскопии диаграммы сенсорных сенсилл в антеннах Anopheles gambiae – малярийного комара.
Ну и, само собой, карты: канализационная система города Вашингтон (округ Колумбия) в 1959 году; постепенное уменьшение численности индейцев на Высоких равнинах на протяжении последних двух веков; три противоречащие друг другу гипотетические проекции береговой линии США через триста лет, отображающие три конкурирующие теории о глобальном потеплении и таянии полярных льдов.
И, наконец, моя любимая – семифутовая диаграмма самки жука-бомбардира, смешивающей кипящий секрет. На то, чтоб составить, нарисовать и подписать эту диаграмму, у меня ушло четыре месяца, а в результате я заполучил такой жуткий кашель, что неделю не ходил в школу.
Но доктор Йорн, тот самый, что так колебался на перевале Пайпстон с сачком в руках, судя по всему, настолько проникся моей потенциальной карьерой, что взял да и подал мою работу – причем без моего ведома или согласия! – на премию Бэйрда. Удивительно незрелое решение, как-то не по-взрослому. Мне казалось, ему бы положено быть моим наставником. С другой-то стороны – а много ли я знал о заманчивом мире взрослых?
Я не так-то часто вспоминал, что мне всего двенадцать. В жизни и без того слишком много хлопот, не хватало еще думать о всяких пустяках вроде возраста – но сейчас, столкнувшись со столь глубоким недоразумением, порожденным, между прочим, вполне взрослыми людьми, я вдруг в полной мере, остро и болезненно, прочувствовал всю неимоверную тяжесть своей юности. Причем – по непонятным причинам – ощущения эти сосредотачивались вокруг артерий у меня в запястьях. Также я осознал вдруг, что мистер Г. Х. Джибсен, разговаривающий со мной чуть ли не с другого конца света, хотя изначально и питал некоторые подозрения насчет моего певучего мальчишеского голоса, теперь считает меня совершенно взрослым, да еще и коллегой.