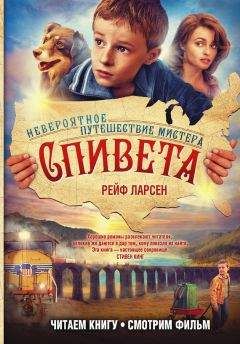– Что-о-о? У нас тут заповедник дикой природы что ли? – вопрошал он, вручая нам по небольшому мачете для вырубки провинившихся дебрей. – Скоро нельзя будет без перископа даже отлить выйти.
Все понимали: доктор Клэр не одобряла подобного посягательства на свои заповедные земли, но чаще всего она даже ничего не говорила, когда мы вырубали очередной участок отцу под выгон. Она тихонько возвращалась в захламленный кабинет к своим жесткокрылым, а если мамины руки трепетали над работой, накалывая жуков и занося данные в архив, чуть лихорадочнее обычного, то замечал это лишь я, ее собрат-ученый.{22}
И вот теперь я лежал на спине в зарослях травы, пытаясь вообразить, каково было бы вживую узреть сотрудников Смитсоновского института, пройтись по Национальной аллее и увидеть впереди увенчанный башнями замок изобретений и открытий. Ну почему, почему мне пришлось отказаться от столь заманчивого предложения?
Какой-то странный шум внезапно нарушил мои мечты о Смитсоновском институте. Я весь напрягся и прислушался. Судя по звукам, ко мне, очень вероятно, приближалась пума. Я сгруппировался, по мере возможности готовясь к броску, и тихонько ощупал левой рукой карманы. Лезермановский ножик (версия для картографов) я забыл в ванной. Если эта пума голодна, я обречен.
Зверь медленно показался из-за завесы стеблей. И вовсе не пума. Очхорик.
– Очхорик, – обрадовался я. – Давай повозимся.
И тут же пожалел о своих словах.
Очхорик был типичным оборванным дворовым псом. Я проштудировал массу книг по собаковедению, пытаясь проследить истоки его породы, но сумел лишь выдвинуть гипотезу, что он отчасти золотистый ретривер, отчасти колли – австралийская пастушья собака, редкая в наших краях, однако иначе не объяснить его пышной шерсти с подтеками серого, черного и коричневого оттенков, ни дать ни взять – рисунки Эдварда Мунка после стирки.
Доктор Клэр, маньяк-классификатор, выказала поразительное равнодушие к родословной Очхорика.
– Это пес, – только и сказала она, в точности воспроизводя слова, сказанные отцом, когда он три года назад привез Очхорика домой. Отец отправился в Бьютт за шприцами для вакцинации и по дороге заметил, как маленький Очхорик рыщет по зоне отдыха на шоссе I‑15.
– Как по-вашему, кто его там бросил? – поинтересовалась Грейси, почесывая песику спину так нежно, что было сразу видно: она уже от него без ума.
– Передвижной цирк, – сказал отец.
Грейси нарекла Очхорика в пышной церемонии, отмеченной гирляндами и музыкой на аккордеоне среди зарослей шалфея на берегу реки. Имя понравилось всем, кроме отца. Тот ворчал, что Очхорик – неподходящее имя для ковбойского пса, их, мол, надо называть коротко и четко: Клык, Рвач или там Гром.
– Таким именем ты даешь псу не тот посыл, – заявил отец на следующее утро после появления Очхорика, быстрыми движениями отправляя овсянку в рот. – Этак он забудет, что он тут на службе. Вообразит, у него каникулы. Нью-йоркские штучки.
«Нью-йорские штучки» была одной из излюбленных фразочек моего отца, он употреблял ее часто, к месту и не к месту. Скажем, привешивал на конец высказывания, желая указать, что речь идет о чем-то, что он считает «телячьими нежностями», «выдумками» или «халтурой». Например: «Три месяца – и рубашке конец. За что, спрашивается, я выкладываю мои кровные доллары, ежели чертова тряпка расползается на куски, не успеешь ценник снять? Нью-йоркские штучки!»
– А что ты имеешь против Нью-Йорка? – как-то спросил я. – Ты там хоть когда-нибудь бывал?
– А на кой он мне? – отозвался отец. – Нью-Йорк – это место, откуда берутся все ньюйоркцы с их нью-йоркскими штучками.
Хотя ковбойский пес из Очхорика вышел весьма посредственный, и это еще в лучшем случае, зато он стал первой любовью Лейтона. Они были неразлучны. Отец все жаловался, что Очхорик не то, что на вес золота, на вес дерьма и то не тянет, но Лейтону до его рабочих качеств и дела не было. Они общались на языке, понятном им одним – череда хлопков, посвистываний и погавкиваний, их личный шифр. Пока Лейтон обедал, Очхорик с него глаз не спускал, следил за каждым движением, а когда тот вставал, пускался за ним вприпрыжку, цокая когтями по деревянному полу. По-моему, Грейси к этой дружбе иногда ревновала, да только что тут поделаешь, с настоящей любовью не поспоришь.{23}
– Привет, Очхорик, – сказал я. – Пошли прошвырнемся.
Но Очхорик отскочил в сторону, припал на передние лапы и пару раз гавкнул, что означало: он вовсе не хочет ни на какую прогулку, а хочет играть в «меня людям не поймать».
– Не, Очхорик, – помотал головой я. – Я не хочу играть. Я хочу просто пройтись. Мне нужно обдумать кое-какие вопросы. Очень важные вопросы, – добавил я, постукивая себя пальцем по носу.
Я двинулся по тропе неторопливым шагом, и Очхорик затрусил мне вслед, тоже неторопливо, вроде бы согласившись гулять, хотя мы оба знали: это все сплошное притворство. Я пытался его обмануть, и он это прекрасно понимал. Выждал, когда моя двенадцатилетняя рука уже готова была метнуться вбок и ухватить его за ошейник, а тогда взял и отпрыгнул в сторону – о, он, верно, только и ждал повода отпрыгнуть! – и я пустился за ним вдогонку. У Очхорика была очень смешная манера удирать – он скакал во все стороны, как шизофреник какой-нибудь, а задняя половина туловища вихлялась то вправо, то влево, точно он пытался не столько обдурить преследователя, сколько сбить с толку себя самого – такое складывалось впечатление, что он вот-вот кувыркнется через голову. Именно поэтому-то отчасти ты за ним и гнался так упорно – предвкушая, что таки кувырнется. Возможно, он этими ужимками специально тебя и заманивал в долгую погоню.
У нас погоня как раз такой и вышла, долгой. Черно-рыже-коричневый хвост Очхорика мелькал впереди средь зарослей травы, подскакивая, как механический кролик из тех, что пускают перед борзыми. А потом мы вырвались из травяного моря и понеслись вдоль изгороди. Я мчался во весь опор и только уже прикидывал, как бы рвануться вперед и в прыжке ухватить пса за задние лапы, когда осознал, что изгородь, вдоль которой мы бежали, резко заворачивает в нашу сторону под углом в девяносто градусов. Очхорик, наверное, так нарочно подгадал. Я видел все, словно в замедленном кино: Очхорик проворно подныривает под нижнюю перекладину, а я, отчаянно пытаясь затормозить, все же налетаю на изгородь со всего размаху и сила инерции перебрасывает меня через нее и швыряет на спину по ту сторону.
Не знаю точно, потерял ли я сознание, но следующее, что помню – это как Очхорик лижет мне лицо, а отец стоит прямо надо мной. Может, я еще не до конца пришел в себя, однако хочется верить, что по лицу его проскользнула улыбка.{24}
– Т. В., ну и на кой черт ты гоняешься за этим псом? – спросил он.
– Сам не знаю. Он хотел, чтоб за ним погонялись.
Отец вздохнул. Выражение его лица изменилось – губы сжались плотнее, на челюстях заиграли желваки. Со временем я научился расшифровывать эту разновидность лицевого тика как «И это мой сын!»
По такому лицу, как у отца, читать было всегда очень трудно. Я пытался (но безуспешно) нарисовать схему его лица, куда вошло бы все, там отражающееся. Брови у него были чуть более разросшиеся и неухоженные, чем стоило бы, зато такие кустистые, что сразу становилось ясно: он только что из долгой поисковой партии – исколесил всю округу на своем красном мотоцикле марки «Индиан». Седеющие усы подстрижены и лихо подкручены – но все же не настолько аккуратно подстрижены и не настолько лихо подкручены, чтоб смахивало на фата или на сельского простофилю. Скорее его усы напоминали о той восхитительной уверенности в себе, что испытываешь, повернувшись лицом к бескрайнему небу прерий на закате. На подбородке, в самом низу – шрам, размером и формой похожий на развернутую скрепку для бумаг. Этот едва заметный зигзаг белой кожи свидетельствовал не только о неизменной выносливости отца, но и том, что как бы крепко он ни сжимал луку седла, многое напоминает ему о собственной уязвимости – например, изувеченный мизинец на правой руке, результат перелома, полученного при установке изгороди. Общая структура его черт удерживалась сложной сетью морщин у глаз и в уголках рта – ложбинок, привлекавших внимание не столько к возрасту моего отца, сколько к его рабочей этике и наличию в мире тех самых ворот, которые он бесконечно открывал и закрывал. В жизни это становилось ясно с первого взгляда, но поди передай такое в таблице с рисунками!
В прошлом году я иллюстрировал одну статью в «Сайнс» о новых технологиях для банкоматов и киосков-автоматов, которые способны регистрировать не только тон голоса клиента, но и его (или ее) выражение лица. Доктор Пол Экман, автор статьи, создал Систему кодирования лицевых движений, согласно которой все выражения лица можно разделить на комбинации сорока шести основных двигательных единиц. Эти сорок шесть основных двигательных единиц – как кирпичики, из которых складывается абсолютно любое возможное человеческое выражение. Используя систему доктора Экмана, я мог таким образом попытаться задокументировать хотя бы мышечную основу того выражения моего отца, которое я назвал «Это не мой сын, а подменыш, никчемный мечтатель». Говоря технически, это AU‑1, AU‑11, AU‑16{25} – внутренняя бровь поднята, носогубные складки углублены, нижняя губа опущена (а временами это выражение даже переходило почти что в AU‑17, когда подбородок со шрамом морщился и становился весь неровным и пористым – но такое случалось только если я делал что-нибудь уж совсем из ряда вон, например, прикреплял дорожный навигатор на шею курице или камеру на голову нашего козла Вонючки, когда мне стало интересно, что видят козы).