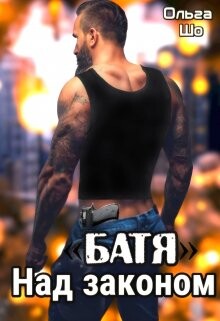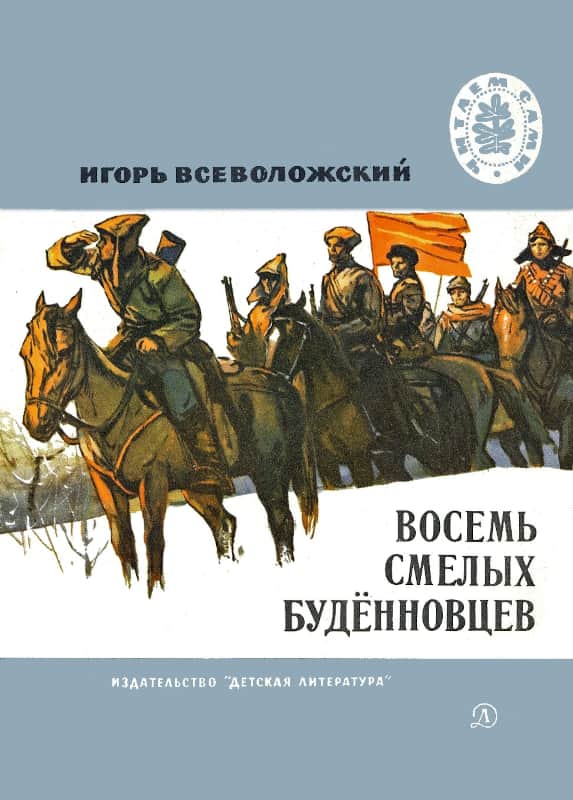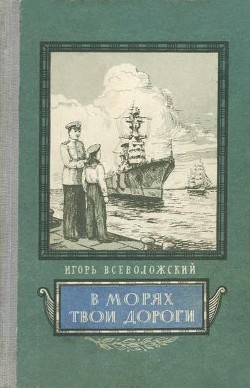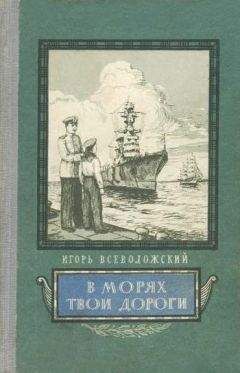меня швейцарской марки 1888 года.
Я побежал домой. Мама уже встала с постели: ей было немного лучше. Петюха и Митюха готовили уроки.
Я рассказал маме, что завтра придет женщина-врач из Москвы, которую очень хвалит Проша.
— Спасибо, милый. Поешь хоть каши. Поди, голодный.
— А я уже обедал.
— Где?
— У Проши.
И я принялся ей рассказывать про Прошу. Потом я схватил бушлат и бескозырку.
— Куда же ты опять, сынок?
— Да я тут, неподалеку, мама, — сказал я, помня свое обещание зайти вечером к Маргарите.
— Ну, гляди, не пропадай.
Через десять минут я подошел к одноэтажному дому с окнами, закрытыми глухими ставнями. Это был дом, где жила Маргарита. Я поднялся на крыльцо и дернул за звонок. За дверью послышались шаги, и мне отворил ее отчим.
— А, здравствуйте, здравствуйте! — сказал он приветливо. — Слыхал о вас, слыхал! Заходите, раздевайтесь.
Я вошел в переднюю и повесил на вешалку свой бушлат.
— Прошу, прошу, — приглашал меня в комнаты актер. — Марина, выйди, погляди, какой к нам гость пожаловал.
В переднюю вышла мать Маргариты.
— Заходите, заходите, прошу вас, — заговорила она улыбаясь. — Маргариточка давно ждет вас.
Она провела меня через столовую, где на буфете искрилась красивая хрустальная посуда, еще через какую-то полутемную залу в небольшую уютную комнату.
— Маргариточка, к тебе гости!
Рита бросилась мненавстречу.
— А я-то тебя жду-жду… Ну, пойдем, я покажу тебе свои книжки.
— Вы потолкуйте, — сказала Маргаритина мать, — а потом будем чай пить.
И она оставила нас вдвоем. У стены стояла никелированная кровать, покрытая белым кружевным покрывалом. Красивые тюлевые занавески прикрывали окна. На диване чинно сидели куклы и плюшевые медведи, с которыми, очевидно, Маргарита никак не могла расстаться. А на столе в красивой деревянной рамке стоял портрет молодого человека в военной форме — наверное, это был отец Маргариты.
Книг у Маргариты было великое множество: и «Том Сойер», и «Евгений Онегин», и «Тихий Дон», и «Охотники за микробами», и «Мертвые души».
— Ну, как тебе у нас нравится?
— Очень, — сказал я.
Мне действительно понравился этот славный дом. Комната была такая уютная! Маргарита стала показывать мне свои рисунки. На одном листке была нарисована березовая роща, на другом — мохнатые ели в снегу и на ветках сидели галки, на третьем — ваза с ромашками и васильками.
— Ты хорошо рисуешь, — сказал я.
— Я хочу быть художницей. Как ты думаешь, выйдет из меня художница?
— Обязательно!
— Ты думаешь? — Она схватила меня за руку. — Ты знаешь, я ничего так не хочу на свете, как быть художницей. Это так хорошо, так интересно!
Потом она попросила:
— Теперь ты расскажи мне что-нибудь о себе, о море. Я никогда не видела моря. Оно красивое, да? Очень, очень?
Мы сели на диван. Я стал рассказывать о том, как жил вместе с отцом на батарее и батарея стояла на том самом месте, где воевали Нахимов и Корнилов, как я попал на корабль и спал в похожей на люльку брезентовой подвесной койке, из которой не раз вываливался во сне, как мы ходили в поход к румынским берегам и как меня ранило в ногу.
Она смотрела на меня широко раскрытыми серыми глазами.
— Какой ты счастливый, Ванюша, — сказала она с восхищением, когда я перевел дух. — Сколько ты повидал…
— Нет, это ты счастливая, — возразил я. — У тебя столько книг, и ты так хорошо рисуешь! Ты будешь знаменитой художницей. Твои рисунки в Москву на выставку отправят. Вот к нам приезжал на флот один известный художник, так он рисовал такие чудные картины! Он нам корабль нарисовал. «Серьезный» в бою» называется: Чудо!
— Когда папа, был жив, я была очень счастливая, — тихо проговорила Маргарита, — и все мы — и я, и мама, и Робертик — были такие счастливые! А когда мама узнала, что папу убили, она целый месяц лежала больная. Мы думали, она умрет, а мне все казалось, что папа жив и вернется. И мама так скучала и тосковала, что даже испортила в театре несколько костюмов. И она хотела итти на войну, чтобы отомстить фрицам за папу, но боялась нас бросить, и ее не отпустили из театра. И она очень хорошо про тебя говорит. «Ты, — говорит, — дружи с ним, Маргариточка, он молодчина, раз он бьет фрицев». Ох, как она их ненавидит! А потом, понимаешь, через два года приехал Николай Дмитриевич, он поступил в театр и стал играть первые роли. Он стал к нам ходить в гости, и мама его полюбила… а теперь… Он, правда, меня никогда не обижает, но все же это не папочка. Вот Робертика он совсем не любит, и его постоянно отсылают к бабушке в деревню. А мне без него скучно.
Я не знал, как ее утешить.
— Посмотри, вот наша школа, — сказала Маргарита, вытирая слезы. Я ее рисовала летом. — Рука ее слегка вздрагивала, но слез больше не было.
«Молодец», мысленно похвалил я ее за выдержку. Мне очень хотелось рассказать ей обо всем, что случилось со мной вчера, но я подумал: «А не покажется ей все это смешным, как Проше?» И я ей не сказал ни слова. Мы продолжали рассматривать рисунки, пока не услышали в дверях голос Маргаритиной матери:
— Дети, чай пить. Маргариточка, приглашай гостя.
Через минуту я сидел рядом с Маргаритой за круглым столом, на котором весело кипел самовар. Отчим Маргариты, Николай Дмитриевич, шутил, смеялся, рассказывал о том, как в Москве во время спектакля у него однажды свалился с головы парик. Он рассказывал, сколько переиграл ролей, а потом попросил рассказать, как я воюю. И удивлялся, что наш «Серьезный» мог два раза прорваться в осажденный Севастополь и этому не могли помешать немцы.
— Моряки молодцы, — говорил он. — Вот жаль, что нет пьес о моряках. А я давно мечтаю сыграть героя-моряка в какой-нибудь хорошей пьесе. Уж я бы его так сыграл! Всю душу бы вложил я в эту роль!
И я подумал, что из Николая Дмитриевича действительно на сцене выйдет форменный морской офицер.
— Будешь приходить к нам? — спросила меня Маргарита, провожая на крыльцо.
— Обязательно!
— Ты приходи часто-часто, мне скучно без тебя. Слышишь?
— Буду приходить, часто. Хочешь — каждый вечер!