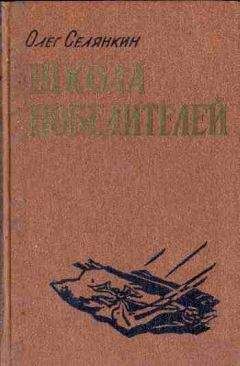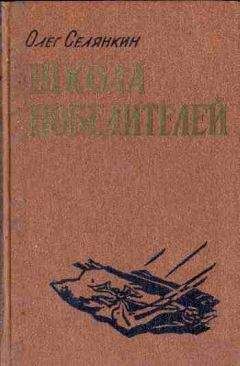Олег Селянкин
ЕСТЬ ТАК ДЕРЖАТЬ!
Однополчанину юнге Олегу Ольховскому посвящается
На Неве тяжело ухают пушки военных кораблей, стоящих во льду. Изредка, как раскаты далекого грома, доносятся до города залпы фортов Кронштадта.
Редкие хлопья влажного снега падают на пальто, шапку и валенки Вити. Можно стряхнуть снег, но Витя не хочет шевелиться. Он сидит на крыше своего дома, смотрит вдаль немигающими глазами, прячет подбородок в мамин пуховый платок и при каждом взрыве бомбы еще плотнее прижимается к холодной дымовой трубе.
Дом высокий, и крыши других домов толпятся вокруг него снежными холмами. На всех на них видны черные пятна самой причудливой формы. Иногда они медленно передвигаются по снежному полю, но чаще всего неподвижны до тех пор, пока не раздастся сигнал отбоя воздушной тревоги. Это сидят наблюдатели — «истребители» зажигательных бомб.
Выше аэростатов заграждения, темнеющих на сером небе, летают фашистские самолеты. Они кружатся над городом, засыпают жилые дома зажигалками. Но часто падают и фугасные бомбы. Тогда дома вздрагивают, а тот, в который попала бомба, начинает медленно крениться и вдруг рассыпается по мостовой грудой камней.
От фугасок одно спасение — бомбоубежище, но всем туда уходить нельзя: пока люди сидят в убежище, маленькая, на первый взгляд безобидная, зажигалка упадет на крышу, пробьет ее и жаркое пламя вспыхнет на чердаке. Начнется пожар.
Вот за этими зажигательными бомбами и следит Витя.
Опасно сидеть на крыше: фашистские самолеты обстреливают дома из пулеметов, звенят осколки зенитных снарядов, ударяясь о железо. Но Витя сам выбрал для себя это место, сам решил, что здесь будет защищать Ленинград.
Конечно, это решение пришло не сразу. В первые дни после объявления войны он, как и большинство его сверстников, бегал по улицам и провожал части, уходившие на фронт: черные прямоугольники матросских батальонов, бесконечные колонны народного ополчения. Ему нравились поскрипывающие новые ремни, винтовки, грозившие небу острыми штыками. На фронт шли и молодые парни, и мужчины, виски которых были седыми. Шли на войну разные люди, но лица у всех были одинаково суровы.
Родной город быстро изменился: в скверах появились глубокие щели, на площадях обосновались зенитчики, в подъездах домов днем и ночью стали дежурить члены местных команд противовоздушной обороны, а Витя вместе с пионерами своего звена облюбовал для себя пост на крыше. Первое время было очень страшно, но Вите не хотелось быть хуже других, и он боролся со страхом. Теперь на его личном счету было уже двенадцать зажигалок! Сам начальник местной противовоздушной обороны старший лейтенант Коробицын объявил ему благодарность.
Знакомство с Коробицыным было особенным. Во время одного из налетов, когда Витя еще не дежурил на крыше, от зажигалки загорелся соседний дом. Из-под его крыши сначала робко выглянули маленькие языки пламени, а потом, словно осмелев, они вытянулись, раздались вширь, и клубы сероватого дыма неожиданно повалили из окон верхнего этажа.
Пожарники приехали быстро, но едва раздвижная лестница достигла окон второго этажа, как раздался вой новой бомбы, и взрывная волна швырнула Витю в подворотню.
Когда Витя встал на ноги, пожарной машины на улице уже не было, а лестница валялась у стены дома. Нужно было тушить пожар, но самолеты кружили над горящим домом, и люди испуганно жались в подъездах. Тогда и появился Коробицын. Пустой рукав его гимнастерки был заткнут за широкий командирский ремень. Коробицын перебежал улицу, рванул рукой лестницу. Однако лестница, слишком тяжелая для одного, начала падать. Он шевельнул пустым рукавом, будто забыл, что у него нет второй руки. На помощь Коробицыну подбежали люди, подхватили лестницу, поставили, а вскоре подошло несколько пожарных машин, и упругие струи воды ударили в пламя, смяли его.
После этого случая Витя и начал дежурить на крыше. Всегда ему было страшновато, а вот сегодня — нисколечко. Ему даже уходить с крыши не хочется. Да и зачем? Нет мамы. Никогда больше не скажет она: «Витюша! Иди домой!»
Сегодня мама умерла…
Сзади кто-то идет по крыше. Слышится тяжелое, хрипящее дыхание. Витя оглядывается. Над ним стоит бухгалтер. Его лицо с ввалившимися глазами и заострившимся горбатым носом заросло седыми волосами.
Витя, как и все ребята в доме, не любил бухгалтера. Всегда Федор Васильевич ходил хмурый, и от одного стука его тросточки о камни мостовой ребятам становилось не по себе, хотя Федор Васильевич никогда никого не ругал. А однажды, в самый разгар футбольного состязания, Витя, игравший защитником, так сильно пнул мяч, что разбил стекло в квартире Федора Васильевича. Но и тогда бухгалтер не закричал и даже не пожаловался родителям. И все-таки его боялись.
А вот теперь он стоит рядом, тянет Витю за рукав и говорит простуженным, охрипшим голосом:
— Пойдем, Витя.
Комнатка у Федора Васильевича маленькая, и ее единственное окно выходит во двор. Может быть, поэтому в нем целы стекла. Только одно выбито, и дыра заложена подушкой. Подушка так примерзла, что ее, пожалуй, до весны и не отодрать. В углу комнаты — кровать. На ней грудой лежат одеяло, пальто, шуба — словом, все теплое, что имелось у бухгалтера и что могло защитить от мороза. Напротив кровати, у противоположной стены, стоят кресло с вырванным кожаным сиденьем и гардероб. Витю не удивляет отсутствие сиденья: он знает, что Федор Васильевич варил из него суп. Мама тоже варила супы из кожаных вещей. И даже из переплетов книг.
Пострадал и гардероб. У него нет нижних ящиков и одной дверки, а вторая еле держится.
— А ну, Витя, помогай! — предложил Федор Васильевич.
Вдвоем они ухватились за дверцу гардероба, покачали ее, дернули несколько раз, и шурупы выскочили из своих гнезд. Дверца оказалась у них в руках. Федор Васильевич положил ее на пол, взял топор и, кряхтя, взмахнул им. Топор медленно поднимался вверх и только чуть быстрее падал. Удары были так слабы, что даже тонкие, сухие дощечки долго сопротивлялись топору.
Наконец дверца превратилась в груду щепок. Федор Васильевич бросил их в печурку. Она притулилась за остатками гардероба, и ее было трудно заметить в темном углу. Скоро печка накалилась, покрылась красными пятнами. Стало жарко, и Витя снял шапку, пальто. Только мамин платок оставил на шее.
— Вот, садись, Витя, в это кресло, — говорит Федор Васильевич, — а я мигом ужин приготовлю.
Федор Васильевич говорит бодро, старается казаться веселым, но его руки сильно дрожат. Витя заметил, что он даже спички из коробки доставал с большим трудом.
Поужинали кипятком с корочкой хлеба, и Федор Васильевич сказал:
— Теперь спать. Я лягу с краю.
Витя послушно залез под ворох одеял и отвернулся лицом к стенке.
И тут он опять вспомнил, что остался совсем один…
А ведь как хорошо было еще весной! Папа служил на военном флоте и хоть не часто, но приезжал домой. Мама была всегда веселой и доброй. Потом началась война. Папа ушел в море, долго от него не получали вестей, и вдруг пришло письмо с далекого Урала: папа, тяжело раненный, находился в тыловом госпитале, но выехать к нему из Ленинграда было уже невозможно. Немцы окружили город.
Так и остались Витя с мамой в Ленинграде. Не стало света, воды. Но рядом была мама… Она иногда ворчала, заставляла одеваться теплее, выгоняла в убежище, просила не лазить на крышу, но чаще ласкала и всегда делилась своим пайком. Мама, милая, хорошая мама!
Вите не хотелось плакать, но слезы полились сами собой. Федор Васильевич осторожно привлек мальчика к себе и крепко обнял.
Витя заплакал еще сильнее: именно так прижимала его к себе мама…
Наконец Витя уснул, но и во сне продолжал всхлипывать; а рядом с ним лежал самый сердитый человек во всем доме. Он вздыхал и временами поправлял пальто, сползавшее со вздрагивающих плеч Вити.
В комнате Федора Васильевича вечный полумрак. Лишь слабые отблески от печки освещают то сморщенное лицо старика, то грязное, осунувшееся лицо мальчика. Пожалуй, и лучше, что темно: не так заметно, что в комнате пусто. Утром Федор Васильевич бросил в печурку последнее топливо — спинку кресла.
Сегодня Вите впервые после смерти мамы пришлось самому идти за хлебом. Обычно Федор Васильевич с утра торопливо шел в очередь, постукивая тросточкой по каменным ступенькам лестницы (тросточка — единственная деревянная вещь, уцелевшая в доме). Но вот уже несколько дней, как Федор Васильевич начал заметно сдавать. Он все медленнее и медленнее передвигал ноги, обутые в глубокие калоши, а по лестнице поднимался долго, отдыхая почти через каждые две-три ступеньки. Он похудел еще сильнее, а нос стал казаться больше.