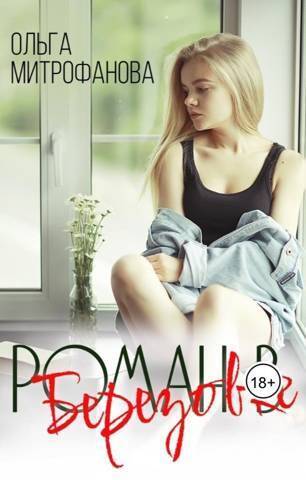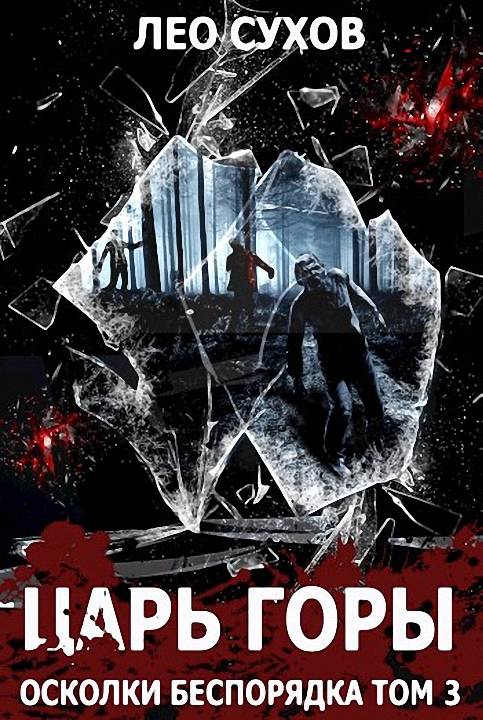Н. Брыляков
РАССКАЗ
Рисунки И. Харкевича
Приходилось ли вам бывать в нашей Березовке? Нет? Ну тогда вы много потеряли. Так вот, если занесет вас каким-нибудь ветром в край голубых Алтайских гор, обязательно приезжайте в Березовку. На попутной машине вы будете целый день мчаться рядом с шумливой Катунью вверх по ее течению. По дороге вам могут встретиться несколько деревушек с названием Березовка.
Но к нашей Березовке надо ехать намного дольше, пока шофер не скажет: «Стой! Приехали, дальше дороги нет, только горы. Видишь, даже речушки бегут оттуда, как белки, прыгая через камни». Но вы этому не верьте — и дальше нашей Березовки идут дороги высоко в горы, да только слабые не решаются ни ходить, ни ездить по ним.
Зато уж сколько красоты в нашей Березовке! Это и высоченные-высоченные горы, и чистые-пречистые, холодные-прехолодные родники. И катунский сине-зеленый омут, в который даже страшно заглянуть, не только прыгнуть. Не знаю, осмелился бы я сейчас поплыть там, но тогда и взрослые проходили мимо него с опаской.
Но не об этом сейчас речь. Село наше называется Березовкой потому, что куда ни пойди, везде березы: старые, с корявой и толстой корой, с ветвями, обвисшими, как балахоны, до самой земли, и совсем еще юные подростки, и только что пробившиеся из-под земли крохотные березки. Это и не деревца еще, а словно воткнутые в землю маленькие веточки, но попробуй потянуть их и увидишь, как крепко ухватились малютки за землю.
Помню, для нас, ребятишек, было настоящим праздником то время, когда на березах просыпаются почки, когда зашевелятся на еще холодном весеннем ветру малюсенькие-малюсенькие клейкие листочки. Они, как только что вылупившиеся цыплята, и сморщены, и мокренькие. Но солнышка обогреет младенцев, пообдует их ветерком, — и весело затрепещут.
В такие дни мы часто прибегали в рощу. Надрежем чуть-чуть ножом бересту, кору и видим: напилась березка соку досыта, полился он тоненькой струйкой через ранку. Тут уж и подставляйте, сластены, свой язык: приторно-сладкая влага так и потечет в рот. Сорвешь прошлогоднюю травинку, сделаешь из нее небольшую трубочку и сосешь.
Увидишь: утром отправилась детвора в рощу с бутылками, ножами и топорами, — значит, пошла березовка.
Но и тут у каждого свой характер проявляется. Иной сделает ножом один надрез, воткнет в него соломинку, пососет сладкую жижу, а затем прижмет бересту обратно, заклеит ранку лиственничной смолой-серой, и зарастет порез быстро, как в детстве заживали ссадины на наших неугомонных руках.
Но был у нас жадюга Спирька, настоящий дылда, да и по годам ровесник старшеклассникам. Пожалуй, не было ни одного из пяти оконченных им классов, в котором бы он не сидел по два года. Для нас, мелкоты, Спирькино слово было законом, главным образом потому, что Спирька щедро награждал подзатыльниками всякого, кто был послабее его.
И в лесу Спирька чувствовал себя полным хозяином. Он не резал и не рубил березы, а просто подходил к кому-нибудь, грубо отшвыривал в сторону, подставлял под сладкие струйки толстую дудку и тянул в себя березовку. А если кто-нибудь протестовал, тут же получал затрещину.
Теперь-то я представляю, какой мы вред наносили деревьям, делая надрезы, вырубая глубокие ямки. Но в то время мы не задумывались над этим, нам просто нравился сладкий ароматный сок. Вдали от городов он заменял нам лимонады, крюшоны, а порой и недостающий к чаю сахар.
Те, кто учился во вторую смену, бежали пить березовку рано утром. Оставленные на ночь полые лунки наполнялись до краев, драгоценные струйки текли и текли по стволу. Утром мы находили лунки наполненными ледяными сластями, а на месте струй — длинные и сладкие сосульки, которые жадно сосали, как леденцы, и кашляли после этого целый день.
Через день-два низ березового ствола весь был залит белой пеной и покрасневшим на солнце соком. Сок застаивался, закисал в ямках, а затем совсем переставал течь, и засыхало погубленное место медленно, болезненно, как подсыхает тяжелая рана.
Мы забрасывали старые ямки и прорубали новые.
Однажды я тайком от домашних прихватил с собой отцовский плотницкий топор, надеясь положить его незаметно обратно, так как отец сильно сердился, когда мы брали без спроса его инструменты.
Я видел, как отец дорожил своим топором, который был удивительно острым и звенел звонко и радостно, когда умелая рука одним махом вырубала на бревне любые начерченные лапы и крюки. И хотя отец давно уже не плотничал (ему теперь больше приходилось разъезжать по полям с бригадирской сумкой), но сколько колхозные плотники ни просили отца продать им топор, он был непреклонен.
И вот я с замирающим сердцем убежал с этим топором в рощу, когда дома никого не было. Я похвалился, что взял топор с отцовского разрешения. Я решил никому не доверять его. Ребята хорошо понимали меня, каждый подержал топор в руках и, как заправский плотник, даже постучал ногтем по лезвию, прислушиваясь к звону стали, но как только кто-нибудь пытался рубить, я налетал коршуном и мигом вырывал топор.
— А ну-ка, дай гляну. — Вдруг подскочил ко мне невесть откуда взявшийся Спирька. — Ерунда! И чего в этом топоре хорошего? Я бы его давно забросил куда-нибудь.
Спирька схватил топор. Но я как клещ впился в топорище и повис на нем. Ребята замерли, следя за неравной борьбой.
Привыкший все брать легко и быстро, Спирька сначала оторопел, но затем резко рванул топор из моих рук.
— Пошел к черту, моллюск! По шее захотел?
Но я, не раздумывая уже ни о чем, просто рвал изо всех сил топор из рук Спирьки. Спирька так мотнул меня в сторону, что в следующий миг я почти потерял сознание, ударившись головой о березу. Руки как-то сами соскользнули с топорища, и все мое тело затряслось от рыданий.
Спирька со злостью махнул топором направо и налево. Ребята как горох посыпались от него в разные стороны. Еще минута — и здоровенный увалень с размаху вонзил лезвие топора в березу. Затем Спирька с такой же яростью рванул топор обратно, но тот и не дрогнул. Еще с большей злостью он дернул топорище вверх, чтобы