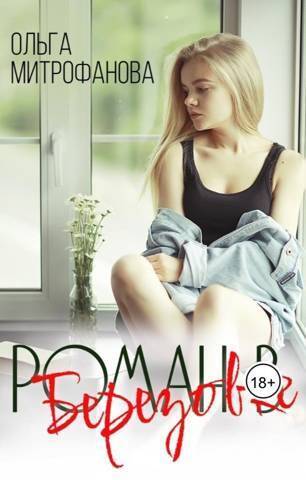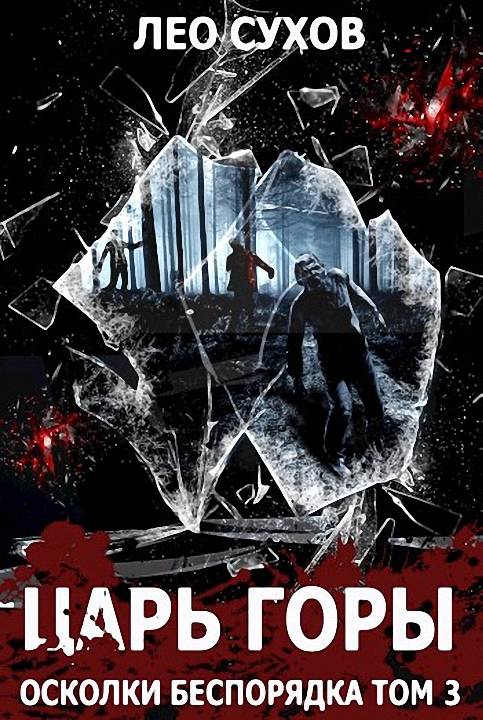выломить кусок дерева между рубцами. В этот момент совершилось что-то невероятное. Спирька, отброшенный неведомой силой, отлетел от березы и растянулся во всю длину. Топор со звоном пролетел над ним и упал вблизи.
Я похолодел от ужаса. Так и есть. На лезвии топора недоставало по меньшей мере четверти луны. Этот блестящий и когда-то грозный серп теперь валялся, как выплюнутый изо рта поломанный зуб.
Слезы хлынули у меня из глаз.
Ребята загалдели и окружили Спирьку.
— Ты, дрянь такая, — наступал на Спирьку мой одноклассник Федька.
— А ну, ты, моллюск, не очень-то, — пытался показать свои гонор Спирька. Но видя, что ему, пожалуй, придется расплачиваться сейчас за все ранее содеянное, Спирька молча взял топор и попытался приставить осколок лезвия.
— Что же, я нарочно ломал? Не хотел ведь этого, — жалобным голосом протянул он.
— Тебе-то что, а ему знаешь как дома влетит! Где теперь такой топор возьмешь?
Я знал, что отец никогда не трогал и не тронет меня пальцем, но уж лучше бы он выпорол меня, чем выслушивать его упрек и потом казниться все время.
— Ну вот что, робя, — сказал наконец Спирька. — Всем молчок. Он топор дома не брал, вы его не видели. И больше никто его не увидит. — Спирька медленно подошел к реке, с силой запустил топор в омут. Потом швырнул и осколок лезвия.
— Поняли? — сказал он строго. — Кто проболтается, того сброшу вслед за топором.
Так же медленно Спирька подошел ко мне:
— Перед тобой я виноват, лупи меня по роже со всей силы сколько влезет. Не бойсь, не трону. — И, как бы в доказательство этого, он убрал руки за спину и крепко сцепил пальцы.
— Дай ему хорошенько, — крикнул кто-то из зевак.
Но не было никакого удовольствия бить человека, когда он добровольно подставил и без того кислую рожу.
— Чего уж, — пробормотал я милосердно, — все равно топор из тебя не выбьешь. — Так обычно говорил мой отец, когда я бывал сильно перед ним виноват.
Домой мы шли, как с похорон. Спирька молча тянулся позади. Не знаю, о чем он тогда думал. Но ребят из нашего класса с тех пор он больше не трогал.
Я избежал тогда отцовской кары, да и хватились искать топор намного позднее. С неменьшим усердием искал его и я, даже ползал на животе под печкой, хотя и знал, что все равно ничего там не найти.
А скоро отец ушел на войну. Во время его сборов я все время терся около отца и выбирал момент, чтобы рассказать ему один на один о топоре. Но так и не выбрал подходящей минуты. Отец же, наверное, понял это по-своему, и, когда мы вместе пошли в сельпо купить дорожную кружку, он почему-то попросил продавца подать с полки большую коробку цветных карандашей — владеть ими было моей мечтой — и грустно сказал:
— Бери, рисуй. У тебя хорошо получаются горы да березы! Пришлешь потом мне.
От счастья и стыда был я, наверное, краснее самого красного карандаша, но смог только молча кивнуть головой. За общим горем все забыли о топоре. Помнил о нем постоянно только я один. Писать об этом отцу в письмах считал неудобным.
Но когда на моих руках появились мозоли от топора, за который пришлось взяться в четырнадцать лет, чтобы заменить ушедших на фронт плотников, я долго стоял в магазине и перебирал топоры, ударял по ним ногтем и прислушивался к звону, пока, наконец, не выбрал звенящий так же, как тот. Я хорошо запомнил его звон. Затем обточил лезвие на наждаке, на водяном точиле, сделал к топору ядреное топорище из сухого березового корня и положил топор в известный лишь мне тайник. Пуще глаза стерег я этот нехитрый плотницкий инструмент, чтобы с чистой совестью отдать его отцу, когда тот прикончит фашистов.
Но перед концом войны почтальон что-то стал обходить наш дом и перестал приносить солдатские треугольники. А уже потом, после победных салютов, пришла малюсенькая бумажка с печатями, где было написано: «Пропал без вести». Долго гадал я тогда, как это надо понимать. Ведь человек — это не иголка, и даже не топор, который можно закинуть в омут. Не верю я в эти слова. Да только до сих пор так мне и не рассказать отцу историю о его топоре. Очень жалко, что не сделал этого сразу. Висит как тяжелый груз на душе.
Как-то мне снова пришлось быть в Березовке. Нашел я то злополучное место. На порубанных березах затянулись нанесенные нами раны. Искал я памятную березу. Но нашел на ее месте лишь обтесанный пень. Не молодая она уже была, видимо, захворала с тех пор и засохла, так и срубили ее на дрова. Или война сделала нас тогда сразу взрослыми, или тот несчастный случай повлиял, или просто нам некогда стало заниматься озорством, но с тех пор никто уже не подрубал в Березовке деревья и не пил их, пусть даже сладкий, сок. И теперь стоят березки, молодые, стройные, гладкие.
Горькая она иногда бывает, эта самая сладкая березовка…