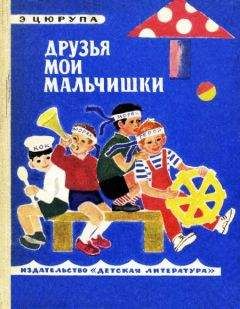— Ты всегда хочешь как лучше, а почему-то получается как хуже.
— Да, вот правда, почему? — удивляется Олешек.
Они сидят рядом на ящике, и едят хлеб с колбасой, и пьют из гранёных стаканов чай без всякого молока, и мешают сахар одной ложкой по очереди. И Олешек чувствует себя настоящим рабочим парнем, у него даже колено выбелено извёсткой.
Мама кончает завтракать первая. Ловко и быстро, как мальчишка, она взбирается на подмости и там окунает большую кисть в ведро. Олешек жуёт хлеб с колбасой и, задрав голову, следит, как ловко бегает по стене толстая жёлтая кисть.
— Мам, а какие они, отдыхающие люди? — спрашивает он.
— Обыкновенные, как мы с тобой, — отвечает мама. — Поработали, отдыхать приедут.
Длинные жёлтые капли срываются с кисти и сквозь щели в подмостях падают на пол в опилки.
— Мам, а когда вы тут всё покрасите, тогда чего будете делать?
— Правое крыло кончим, заселим — левое начнём.
— А потом?
— Потом детский сад будем заканчивать.
— Для меня?
— Для всех ребят. И для тебя. Хватит тебе без дела болтаться.
Кисть ныряет в ведро и проводит по стене жёлтую дорожку.
— И нечего тебе с этим Валеркой водиться, — говорит мама. — У тебя из-за него одни неприятности. Он неслух, понимаешь?
— Да, — кивает Олешек.
— И глаза у него какие-то бесцветные, — говорит мама.
До сих пор Олешку казалось, что глаза у Валерки голубые, но мама — маляр, она лучше знает.
— И ещё трус вдобавок! Набезобразничал, поднял тебя в бадье, а сам удрал!
— А может, ему некогда было, — подумав, говорит Олешек.
— Да будет тебе, — отмахивается мама и сердито шлёпает кистью по стене. — И что он тебе дался? Никто из ребят с ним не водится! И ешь поскорей, ты что, разучился жевать?
Олешек молчит. Он торопится прожевать хлеб с колбасой, чтобы ответить.
— Ага, с ним никто не водится! — соглашается он, проглотив последний кусок. — Никто, правда! — Он вытягивает шею, чтобы видеть маму, и на нос ему падает жёлтая капля. Олешек моргает коротенькими ресницами, трёт пальцем нос и глядит вверх на мать своими ясными светло-карими глазами. — Значит, ему одному ведь плохо, мама? Да?
Папа привёз на своей машине большие листы фанеры. Пока они лежали на снегу, Валерка и Олешек на них прыгали сколько хотели. Потом из этих листов плотники вокруг каждой облупленной колонны выстроили башню.
Там, внутри, в башнях, целую неделю стучали и скребли, а когда фанеру сняли, оказалось, что колонны сделались гладкими и блестят, как новые.
С этого дня папин грузовик не стал больше возить мел и краски. Теперь из машины каждый день выгружали очень интересные вещи. Приехала гора пружинных сеток, а кроватные железные ноги и толстые тюфяки Олешек с папой привезли совсем отдельно. Потом в машине приехало зеркало. В его глубине поворачивались сугробы, двигались заснеженные ёлки и даже — Олешек сам видел — пролетела ворона.
Потом в машине ехали две пальмы. Олешек стоял в кабине на коленях задом наперёд и глядел в кузов через маленькое окошечко. Пальмы сидели в кузове важные, как две тётки, закутанные в рогожные шубы, и недовольно качали головами. Олешек сразу понял их разговор. Одна пальма возмущалась: «К чему снег, к чему снег?»
А другая поддакивала: «Плохо, всё плохо…»
Когда грузовик остановился и папа отвалил борт машины, Олешек сердито крикнул пальмам через стекло:
— Ничего не плохо, а очень даже хорошо! И снег нужен, чтобы на лыжах бегать! — Больше Олешек не стал с ними разговаривать.
Он вылез из машины и побежал наверх, смотреть, как вешают люстры.
Монтёр сидел под самым потолком и вкручивал лампы в маленькие золотые гнёзда, а стеклянные льдинки на люстре качались, ударялись о его руки и звенели.
Скоро Олешка позвал папа, и они опять поехали. Это был самый весёлый рейс: такого грома и звона Олешек не слыхал ещё за всю свою жизнь. Они ехали с папой и смеялись, и даже песни пели во весь голос, но друг друга не слышали. Потому что вместе с ними в машине ехали тазы и баки, золотые и громкие, как трубы из оркестра. Потому что гремели и звенели кастрюльки, разноцветные, как радуга, и миски, и сковородки, лёгкие и звучные, как бубны. Здравствуй, посуда для новой кухни! По дороге раз пришлось остановиться и вылезти. Одна сковородка вдруг вылетела через борт прямо в снег. Хорошо, что встретились вертушинские девчонки на лыжах, стали махать и кричать. Спасли сковородку. Дальше Олешек вёз её у себя на коленях, в кабине.
И вот наступил день, когда папа повёл не грузовую машину, а новенький голубой автобус. Повёл его на станцию встречать отдыхающих. Правое крыло было в полном порядке, а в левое ход закрыли и завесили занавеской, чтобы отдыхающие туда не смотрели: там ещё шла работа.
Николай Иванович напоследок всё проверял в доме. Да, правое крыло было готово к приёму гостей. Только дверь его рассердила. Он её открыл, а она спросила скрипучим голосом: «Прри-ехали?»
— Я тебе поскриплю! — буркнул Николай Иванович и сердито ткнул дверь своим лохматым сапогом.
«Скррип-лю», — ответила дверь.
Он достал из карманов отвёртку и молоток.
— Ты у меня замолчишь! — сказал он.
«Скррип-лю», — сказала дверь.
Николай Иванович прикручивал петли, подтягивал пружину, привинчивал, пристукивал. Он возился долго, и лоб у него стал мокрый от пота, и толстая шея покраснела. Он работал, пока не подъехал голубой автобус с гостями.
Тогда Николай Иванович заулыбался и открыл перед гостями дверь. И она сказала коротко и ясно:
«Прри-вет!»
Летом в лесу много тропок, а зимой одна. Все тропки и прогалинки, просеки и опушки занесло снегом. Снег стоит высокий и глубокий, несмятый, нетронутый, чуть царапнутый сверху лёгкими птичьими лапами.
Тропку люди протоптали ещё с осени. Прошли раз по первому снежку, прошли по второму, всю зиму ходят из деревни Вертушино в дом отдыха на работу. Сперва ходили штукатуры, маляры, плотники, а теперь ходят истопники, и нянечки, и дежурные монтёры, и самый главный повар Анна Григорьевна, и гардеробщица Петровна. Всё знакомые Олешку люди.
Тропка вьётся по лесу меж высоких снегов, меж старых елей. Вот она нырнула под белые воротца. Кто их выстроил среди леса? Никто не строил: это берёзка согнулась дугой под тяжестью снега. И на тонкой её веточке повис-качается снегирь с красной грудкой, клюёт мёрзлую берёзовую серёжку.
А тропка убежала дальше, в овраг. Там летом в тени вётел поблёскивала речка Вертушинка, а сейчас меж голых прутьев светло и лучисто сияет лыжня.
Лыжню проложили вчера папа с Олешком. Впереди по нетронутому снегу шёл папа, а за ним Олешек, а за Олешком Валерка на своих длинных ногах. Ноги у Валерки, как всегда, разъезжались, лыжи тыкались во все стороны, вот он и сбил лыжню. Видите, какая она стала неровная?
Сейчас Олешек идёт по лыжне один. Он идёт враскачку, без палок, размахивает руками и поёт во весь голос.
Всё тут, на Вертушинке, ему знакомо: поверни голову направо — на высоком обрыве шумят сосны; поверни налево — низко склонились к замёрзшей речке вётлы; поодаль стоит чёрный дуб-раскоряка, упрямый дуб — листья на нём рыжие, мёрзлые, а он их так и не сбросил.
А вот и белка. Далеко высунулась из дупла, напряглась вся струночкой — от острых ушей до кончика хвоста. Глянула блестящим глазком — «Кто идёт? От кого так много шума?» — и мигом обратно в дупло.
— Да здравствует дуб-раскоряка, да здравствует белка глядючая, да здравствует тропка ходючая, да здравствует лыжня скользючая!.. — поёт Олешек свою громкую песню. Может, она и нескладная, а ему нравится.
Шапка на Олешке развязана, меховые уши торчат в стороны, на руках нет рукавиц, нос покраснел от морозца — очень весело!
Возле поваленного тополя — его ещё летом грозой повалило — лыжня выбирается на берег, и у старого колодца навстречу лыжне выбегает из леса знакомая тропка.
И вдруг Олешек замолкает и останавливается. Потому что по знакомой тропке, где ходят только знакомые люди, спускается к Вертушинке неизвестный человек. Он идёт медленно, опираясь на палку. Рыжая меховая куртка его расстёгнута, шапку он снял и держит под локтем, а голова у него совсем седая.
«Старый старик. Наверное, отдыхать приехал», — думает Олешек.
У поваленного тополя седой человек останавливается и кладёт руку на грудь. Дышит он тяжело. Потом спрашивает Олешка:
— Эй, хозяин, это ты на весь лес шумишь?
— Я, — отвечает Олешек. — А вы кто? Отдыхающий человек?
— Верно, отдыхающий.
Седой человек отряхнул большой кожаной перчаткой снег с лежачего тополя и медленно сел. Он воткнул свою палку в сугроб и осмотрелся по сторонам.