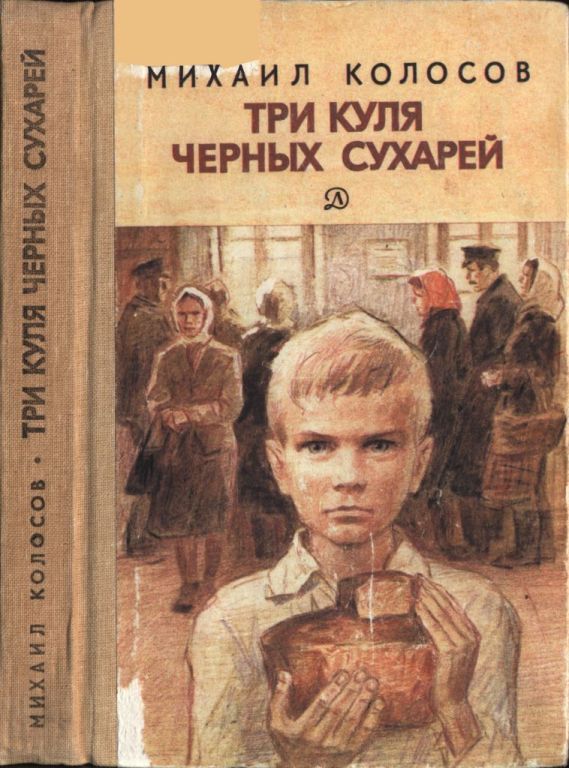что он забыл о нем, и хотел уже сам пробираться к дому, когда появился разведчик и сказал:
— Иди домой, мама кличет обедать.
— Мама уже пришла? — удивился Васька и снова присел на землю, стал колупать семечки. Сделалось тоскливо, никуда идти не хотелось: опять будет взбучка. Спросил: — Ругается?
— Не…
— А Танька сказала ей?
— Не знаю, — повел плечами Алешка.
— Ну, вот… Ничего и не разузнал. — Васька нехотя встал и поплелся домой.
— Где вы там запропастились? — торопила мать. — Давайте обедать. Голодные небось? Почему ж вы не обедали без меня?
Мать была спокойна, похоже, никакой бури не предвиделось. Васька взглянул на Таньку, та быстро закрутила головой: «Не сказала». «Ну, слава богу, на этот раз не наябедничала. Кажется, пронесло…»
Но радовался Васька рано. Обед еще не кончился, как к ним пришла Ульяна. Обомлев, Васька опустил ложку и глядел тупо вниз. Ульяна поставила на угол стола щербатый кувшин, проговорила весело:
— Хлеб-соль!.. Вот вам как раз к обеду.
— Что это! — спросила мать.
— Молочка трошки, — сказала Ульяна.
— Ой, ну что ты, Ульян! Скольки она там дает, та коза, и ты отрываешь… У самой же трое.
— Хватит и им. Есть што есть, слава богу, окромя молока. — Она поймала Васькин взгляд, погрозила кулаком: — Убег! Досталось бы и тебе.
— Натворил что-нибудь? — всполошилась мать.
— Да не, — успокоила ее Ульяна. — Чувал с сухарями перекувырнули.
— Какой чувал?
— В чулане у нас. Нашли где хорониться, идолы.
— Ну?
— Да ниче, — отмахнулась Ульяна. — Ото ишо после той голодовки стала я кусочки сушить да в чувал складать. Напужались тогда, в двадцать первом, помнишь, как было?
— Как не помнить, — отозвалась мать. — Солому всю с крыши съели. — Обернулась она к Ваське: — Солому с хаты снимали, в ступе толкли — лепешки пекли и ели. Страшная голодовка была. Хаты, какие под соломой были, все раскрытыми сделались, стояли как скелеты — одни кроквы да латы, будто ребры. Страшно глядеть.
— Да куда там! Не приведи господи еще раз такое, — продолжала Ульяна. — Так я ото ж по-трошки, понемножку, кидала по сухарику. Нехай, думаю, стоять про черный день. Есть они не просють. А вдруг случится неурожай или еще какая беда? Стоял чувал, никого не трогал, пока не перекувырнули его вот эти обормоты. Да нема худа без добра: сухари почти все заплеснили, преть начали. Придется поросенку отдать.
— Ох, Васька, не можешь ты без шкоды! — погрозила мать. — Никак не можешь!
— Ниче, ниче, не ругай дужа. Я Микиту сгоряча хлобыстнула веником, а потом пожалела: они ж не нарочно. Это вот когда по чужим садам лазють да с каменюками бегають за голубями — то я не люблю. За воровство, сказала Никите, убью! — сердито крикнула Ульяна.
— Воровство — то не дай бог, — согласилась мать. — Я уж так приказываю, так приказываю: последнее дело — воровать. Уйду на дежурство, а у самой душа болит: вдруг, думаю, сманит Илья Ахромеев, полезут к Родиону в сад — тот же не пожалеет, из ружья застрелит.
— Застрелит, — сказала Ульяна. — Убьет, и все. А што ты скажешь?
Наговорившись, Ульяна ушла, а мать принялась разливать молоко по стаканам.
— Пейте.
— Не хочу, — заупрямилась Танька, брезгливо перекосив лицо.
— Это еще что?
— Оно козой воняет, — Танька брезгливо оттопырила нижнюю губу.
— Подумайте! — пропела мать удивленно. — Ишо разбирается! Спасибо скажи хоть за такое. Ну, не хочешь — как хочешь. Алеша выпьет. Пей, сынок, не гляди на нее. Козье ишо лучче, чем коровье, оно жирнее. Пей — вырастешь большой и сильный.
Васька молчал, думал о сухарях, о голоде, о котором часто говорили взрослые. Не представлял он себе, как это бывает, когда совсем есть нечего. Ведь по карточкам дают и хлеб, и крупу, и сахар. Мало, правда, но живут же. И неурожай — как он бывает? Все растет каждое лето, не было еще такого, чтобы посадили, а оно не выросло. Спросил у матери про неурожай, как он бывает, почему.
— Дождя не будет — вот тебе и неурожай. Все посохнет — собирать нечего. Дело не хитрое.
— А если поливать?
— Не наполиваешься. Дождя нема — все пересыхает, даже в колодезях вода кудась уходит. Вон и нынче лето какое плохое. Картошка как раз в завязь пошла, цвесть начала, а тут сушь. Она и спеклась, наверно. На огород нынче мало надежи.
— А че ж мы сухари не сушим?
— Суши, — сказала мать просто. — У тебя остается хлеб, вот и суши.
Нет, у Васьки хлеб не оставался.
— Вот то-то же, — качнула мать головой. — Не сохнет у нас хлеб. Да на всю жисть все одно не напасешься. Рази угадаешь, с какой стороны он клюнет, тот голод. Ешьте, пока есть, а не будет… Как люди, так и мы…
Страх, который пережили ребята после опрокинутого куля с сухарями, быстро прошел, жизнь их вошла в обычную колею, одни события наслаивались на другие, и сухари вскоре забылись. Но, к сожалению, ненадолго. Очень скоро им пришлось вспомнить их и горько пожалеть о той «шкоде», которая помогла скормить поросенку сухари.
Осень. Сады облетели, стоят прозрачные, сквозь них даль просматривается. Одна белая акация зеленеет, будто лето в разгаре.
Ночью хватил первый предзимок. Встал Васька утром, сунулся в ведро с водой в сенцах — ткнулась кружка в твердую гладь. Заглянул — замерзла вода крепко, даже лед пузырем вздулся; ударил по нему железной кружкой, пробить хотел, не пробил, только в том месте, куда ударил, засахарился лед и белые полоски лучами разбежались к краям. Сильнее ударить Васька не решился, пожалел кружку — эмаль обобьется. Взял ведро, потащил в комнату:
— Смотрите, лед!
Подбежал Алешка, водит рукой по гладкой твердой воде, радуется.
— На плитку поставь, — советует Танька.
Поставил. Затуманилось ведро, капельками пота покрылось. А вскоре Васька вытащил из него ледяной кругляш, посмотрел сквозь него на окно — ничего не видно, хотя и прозрачный. Алешка тянется — тоже хочет посмотреть. Отдал ему Васька, вертит малыш хрупкое колесо, не знает, куда его приладить: держать — рукам холодно, положить — жалко. Вертел, вертел, выскользнул кругляш, разлетелся на мелкие осколки. Земь под ними стала быстро темнеть мокрыми пятнами.
— Ну вот, не можете без шкоды, — подражая матери, укорила Танька ребят и принялась быстро собирать кусочки льда и бросать их в ведро с углем. — Испортили земь.
— Ничего, высохнет, — успокоил ее Васька.
Оделся, вышел во двор. Акация совсем раздетая стоит, лишь кое-где листочки задержались, висят безжизненно, какие-то припухшие, потемневшие. А под деревом