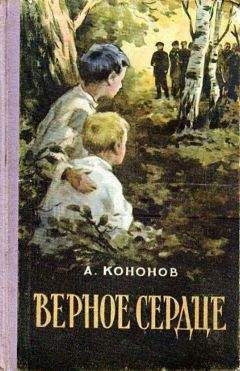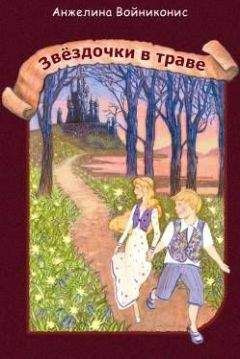— Налево, второй корпус, — почему-то шепотом сказал Гриша.
И тут же услышал начальственный окрик:
— Что за люди?
Наперерез бежал к ним, выпучив глаза, мордастый мужчина в черной папахе, в коротком, крытом сукном полушубке с меховым воротником.
— Эй, сторож! Сторож! Черт!…
Не сговариваясь, Кузнецов и Шумов подскочили к нему, сбили с ног; мордастый заорал неистово.
Кузнецов, прижимая его к мерзлой земле, пробормотал:
— Карманы, карманы надо проверить, нет ли револьвера.
Револьвера у мордастого (Гриша догадался, что это и был мастер сборочного цеха) не оказалось, а свисток был; Кузнецов отобрал его и швырнул подальше — к воротам.
Телепень с Гришей подняли вдвоем дубовый кряж, подбежали к зданию цеха, где на тесовых воротах, на железном болту, висел огромный замок.
Они высоко подняли кряж, раскачали… Ударили — и замок, сделанный на совесть, устоял! Грише с необычайной резкостью запомнилось косо, «елочкой», сбитые гладкие доски ворот с коричневыми глазками от соструганных сучков, массивный, похожий на рельс болт…
Мастер в руках Кузнецова обмяк, запросился:
— Братцы… я что ж… я человек подневольный!
— Лежи смирно! — велел ему Кузнецов и бросился помогать Шумову с Телепнем.
Теперь уже три пары сильных рук, подняв кряж, кинули его с размаху в дужку замка. Слышно стало, как за запертыми воротами цеха возник тревожный гомон…
Мастер привстал, воровато оглянулся и со всех ног побежал к проходной будке.
— Свисти! Подымай тревогу! — крикнул он, подбегая к сторожу.
В эту минуту дужка замка от очередного — четвертого по счету — удара наконец отлетела, ворота распахнулись, из цеха с грозным гулом хлынула толпа рабочих.
Один из них крикнул отчаянно:
— Убежал!
И тут произошло то, чего никто не ожидал.
Вероятно, и для самого сторожа собственный его поступок был неожиданным: с испуганно-оторопелым видом он схватил в медвежьи свои объятия вбежавшего в проходную мастера и выволок его назад — на заводской двор.
— Баранья голова, — потерянно бубнил сторож, — подумал бы толком — разве можно против народа?
— Товарищи! — приподнявшись на носках, закричал во всю силу низенький, коренастый мастеровой. — Соблюдай порядок! Не допустим самосуда!
— Тачка где? — крикнул кто-то. — Тачку сюда живей!
— А мешок готов?
Мастер опять взмолился, лицо у него стало иссиня-белым, с черными крапинами на щеках.
— Братцы…
Низенький усатый мастеровой, разгоряченный, дыша тяжело, подошел к грузчикам:
— За помощь, друзья, великое спасибо! Низко вам кланяемся! — Он и на самом деле скинул барашковую шапку, поклонился в пояс. — А теперь просим: не оставайтесь здесь более ни минуты.
Гриша понял, что низенький был здесь вожаком.
Двое рабочих с расторопной поспешностью и с таким видом, будто делали они это уже не раз, напялили на испуганного мастера белый мешок, должно быть, из-под муки.
Гриша задержался всего на одну секунду — поглядеть, что будет дальше.
Уже прикатили откуда-то одноколесную тачку — должно быть, она стояла где-нибудь наготове… Мастер с отчаянием забарахтался в мешке. На тачку, опершись рукой о плечо молоденького мастерового, вскочил низкорослый человек (это и есть Тулочкин, подумал Гриша) и необычайно сильным для его роста, далеко слышным голосом начал:
— Товарищи! Доколе будем терпеть издевательство жандармского охвостья? Доколе…
— Ну, брат, теперь ходу! — встревоженно сказал Кузнецов. — Теперь у них уж пошли дела свойские… Через пять минут прискачет полиция.
Трое грузчиков через проходную вышли на площадь. Гришу удивило, что она оказалась безлюдной; только с самого ее края, поближе к Черной речке, сидели на корзинках три женщины, укутанные в теплые платки: должно быть, торговки печеными яйцами, оладьями — всякой снедью, которую разбирали у них по дороге на работу мастеровые.
— Чисто сработано! — оглядываясь назад, похвалил Телепнев. — Фараоны поспеют как раз к шапочному разбору.
Грузчики уже вернулись на пристань, когда через широко распахнутые ворота завода рабочие выкатили на площадь тачку с мастером: из завязанного мешка у него торчала только всклокоченная, с выпученными глазами голова.
— Ты говорил, — закричал ему с яростью старый, седой рабочий, — говорил, что ты — подневольный человек? Нет, ты не человек, коли своих продаешь!
Тачку подвезли к глубокой сточной канаве, и уже раздавались шутки:
— Эх, жалко — подморозило… А то бы мы тебе усы нафабрили.
Отходчив русский человек — со смехом, с уханьем, с солеными присловьями мастера вывалили в канаву.
И сейчас же раздался голос Тулочкина:
— Товарищи! Все по местам! Наступит время, когда мы по-другому будем судить предателей рабочего класса! Это время не за горами… А теперь — спокойствие! Все по местам.
Заводские ворота медленно закрылись. Скоро площадь снова стала безлюдной.
…К мосту через Черную речку скакал на вороных конях отряд конной полиции.
С каждым месяцем становилось все голоднее. У Григория Шумова резко выступили незаметные прежде на круглом лице скулы. Костлявыми стали казаться широкие плечи. Но чувствовал он себя увереннее прежнего, как-то прочнее. Иногда сам себе удивлялся: словно стал он не бедней, а богаче.
…На всю жизнь останутся в памяти Григория Шумова ночные беседы с Тимофеем Леонтьевичем. Теперь он уже знал, что Шелягин связан с таинственным «комитетом», полным именем которого были подписаны расклеенные в памятную ночь листовки.
А разве не стал он богаче от настоящей мужской дружбы с Кириллом Комлевым, которого еще в детстве любил как дядю Кирюшу, но только теперь разглядел его по-настоящему — человека большой душевной силы?
Неожиданно смелые вопросы задает при встречах с Григорием Шумовым питерская швея Катя Трофимова, — не его в этом вина и не его тут заслуга: скорее всего, сказалось на Кате ее возникшее в добрый час знакомство с неизвестной Шумову мастерицей Натальей Егоровной.
Перестал скрытничать и не совсем ясный для него Оруджиани.
Широк мир, населенный друзьями Григория Шумова — и теми, которых он знает близко, и теми, кого он еще не успел открыть. А сколько новых людей ему предстоит встретить на своем пути!
Столкнувшись с Шумовым под аркадами университетского двора, Оруджиани удивился:
— Что с вами? Вы как-то изменились. Глаза стали шире…
— Это, должно быть, оттого, что щеки подтянуло.
— Возможно. А новости есть?
— Какие же новости… — Гриша вспомнил свой разрыв с Барятиным. — Одного друга я потерял, двух других нашел…
— Так что, можно сказать, не в накладе? — сказал Оруджиани, с рассеянным видом оглядываясь. — Знаете что? Тут не очень подходящее место… Отойдем-ка в сторонку: мне надо сказать вам несколько слов. Помните об Озерках?
— Помню.
— А знаете ли вы, что в первый же день совещания в Озерках была принята прокламация к студенчеству? К нам с вами?
— Нет. Не слыхал об этом.
— Текст ее сохранился. Недавно нам удалось, правда довольно кустарным способом — на «студне», оттиснуть сотню экземпляров.
Для Гриши не было секретом существование «студня» — полупрозрачной тугой массы, варенной на картофельной муке; исписанный литографскими чернилами лист бумаги накладывали на поверхность «студня», прокатывали сверху валиком — и после этого студень уже заменял литографский камень, на нем можно было заготовить сотню, другую листовок.
— Вам передаст один экземпляр Веремьев. Близка годовщина расправы над думской пятеркой. Нам надо подготовиться…
— Но ведь ноябрь давно прошел!
— В ноябре был налет полиции на Озерки. А суд-то ведь состоялся позже, в феврале. Рабочие Питера будут отмечать именно эту годовщину. Как откликнется университет? Ясного ответа на этот вопрос, мне кажется, никто сейчас дать не может. Пестра, ах, как пестра наша студенческая братия! Всякого у нас жита по лопате. Во всяком случае, нам-то в меру своих сил надо сделать все, что сможем. Что вы так смотрите? «Нам» — это значит: передовой части студенчества… Правда, такое определение звучит несколько расплывчато. Но не в определении суть. Знаете что? Мне пришла в голову мысль как-нибудь договориться с Трефиловым и Притулой. Знаете Притулу? Это у них восходящее светило.
Шумов уже знал: «У них» — значит у людей эсеровского толка. Их, впрочем, нельзя было назвать строго партийными; существовали в университете, в Лесном, на Высших женских курсах кружки студентов, тяготевших к эсерам, — одни такое тяготение свое принимали всерьез, другие просто хотели «поиграть в революцию», уже заранее поглядывая, как бы своевременно уйти в кусты и следы за собой замести. Об арестах кого-нибудь из этой публики не было слышно. Впрочем, Трефилов высылался когда-то «в административном порядке» в город Вятку, что и создало вокруг него ореол «старого борца»; но, по словам Оруджиани, было это во времена царя Гороха.