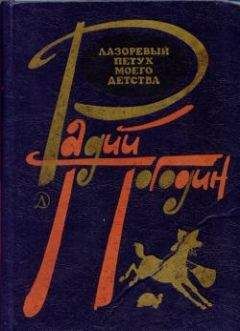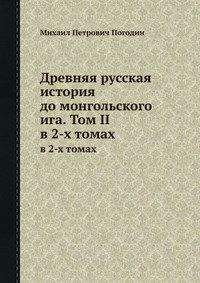Боба закрыл голову руками и удрал в кусты.
Ольга села на парапет. Посидела немного пригорюнясь и позвала тихим печальным голосом:
— Боба, а Боба!
Боба стоял за кустом.
— Боба, а Боба! — еще раз позвала Ольга.
Молчание.
Гранит, синеватый с розовым, еще сохранял тепло. Вода в реке густого синего цвета. На ней листья красные и оранжевые.
— Пора, — сказала Ольга, растерянно шмыгнув носом. Она встала на парапет, посмотрела в воду. — Вода, почему ты молчишь? А собственно, почему ты должна со мной разговаривать? С предателями не разговаривают… — Ольга руки раскинула — ей, наверно, казалось, что именно так, с раскинутыми руками, топятся люди.
Боба за кустом заплакал, как грудной ребенок. Он захлебывался от горя. И утешал себя старушечьим голосом:
— Не плачь, не рыдай. Ты мое дитятко. У маленького животик болит. А мы ему молочка дадим.
Ольга села поспешно, ноги свесила и, когда плач утих, почесала одной ногой другую.
— Не дают спокойно утопиться, ходят тут, будто другой дороги им нету… Туфли я, пожалуй, оставлю. Они еще совсем новые. — Ольга сняла туфли, обтерла с них пыль носовым платком, заодно нос вытерла и поставила туфли на парапет. Встала во весь рост…
Птицы над ее головой примолкли, оцепенели от жгучего любопытства. Кроме вороны…
— Прощайте, деревья. Птицы, прощайте. Вы меня никогда не презирали. Если разобраться, вы тоже рыжие. Вас тоже многие обижают. И ты, камень, прощай. — Ольга нагнулась, погладила теплый камень-гранит, отполированный многими прикосновениями. — Ну, а теперь пора. Еще раз прощайте. — Ольга руки раскинула…
Боба за кустом взвизгнул и засмеялся.
— Нетушки, нетушки, — затараторил он, как пятиклассница, у которой есть что сказать подружкам по большому секрету. — Нетушки, и не спорьте. Она сама мне сказала, что ей Танька сказала, а Танька слышала в щелку… Ха-ха-ха… Хи-хи-хи…
Ольга опять села.
— Бегают тут. Ходят всякие. Эй вы, уходите отсюда! — Она подождала, пока смех замолк. Повздыхала досадливо. — Свитер я тоже оставлю. Это хорошая вещь. Мне его мама вязала. Кому-нибудь пригодится. — Ольга стащила свитер, положила его рядом с туфлями. Встала, руки раскинула. — Прощайте, деревья. Листья, прощайте…
Боба за кустом в один миг скинул кеды и куртку. Напружинился весь.
— И вы, птицы, прощайте… Почему вы молчите? Вам противно со мной разговаривать? — Ольга почесала затылок, поежилась. — Холодно…
Ворона снялась с дерева, полетела в другую часть парка, где карусели.
— А почему я должна топиться? — сказала Ольга. — Если я утоплюсь, все будут ахать и охать, станут жалеть бабушку. Старуха Маша скажет, что я вся как есть в рыжую Марфу. Боба скажет: «Рыжая, от нее чего хочешь ждать можно». Зачем это я должна топиться из-за дураков? — Ольга сунула руки в карманы.
Птицы над ее головой запищали — принялись спорить, права Ольга или не права. Некоторые щеглы даже подрались между собой.
Боба за кустом досадливо крякнул.
— Такой был случай прославиться, — сказал Боба.
Раздался свисток, и на аллее появился милиционер, он же шут (дядя Шура).
— Что здесь происходит? Прекратить! Я вам сказал, прекратить стоять близко к воде! Нельзя вас оставить одних ни на минуту. Что это вы тут разделись?
— Что, и раздеться нельзя? Может, мне жарко.
— Не может быть жарко, потому что сегодня не жарко.
— Может, мне изнутри жарко.
— В таком случае вызывают врача, а не раздеваются возле самой реки.
— Не нужно врача. Никого мне не нужно. Может, я искупаться хотела.
— Сейчас же одеться!
Ольга хотела возразить, но милиционер, он же шут (дядя Шура), поднял руку.
— Р-разговорчики!.. Могу я, наконец, иметь личную жизнь?
Боба за кустом второй кед натянул, куртку надел и куда-то пошел, по дальнейшим своим делам. Птицы разлетелись по всему парку, ничего интересного для них уже не предвиделось. Остались только воробьи — и то потому, что им лень летать на далекие расстояния.
— А почему вы не извиняетесь перед публикой? Вы так любите это делать, — сказала Ольга довольно ехидным голосом.
— Р-разговорчики! — Шут (дядя Шура) усмехнулся, снял милицейскую фуражку, сел рядом с Ольгой. — Устал я за вами бегать. Иногда очень хочется мне, чтобы все было тихо, спокойно. Чтобы у всех была красивая личная жизнь.
— Тогда зачем вам эта милиционерская фуражка? Может, для страха?
— Для авторитета. Милиционер всегда прав — в этом смысл его должности. Ты заметила — старые милиционеры похожи на генералов. У них жизнь нелегкая. Нелегко человеку, который всегда прав. Конечно, если он это понял.
— Дядя Шура, у вас с собой нет чего-нибудь поесть, а? Я что-то есть захотела.
— Живешь, если есть просишь. Бутерброд с сыром.
— И вы, дядя Шура, поешьте. Я почему-то не умею есть в одиночестве.
Ольга разделила бутерброд пополам.
— Зачем, а? Зачем они мне не верят? — спросила она, набив рот. — Разве у меня на лбу написано, что я врунья?
— А разве написано, что ты правдивая?
— Шутите вы, — пробормотала Ольга. — Как же это можно не верить человеку, не зная его?
— А может быть, он мазурик.
— Да, но, может быть, он правдив, может быть, честен. Скажите, с чего мы должны начинать отношения?
— С доверия.
— Дядя Шура, а вы не писатель?
— Ты же знаешь, у меня другая работа.
— А может быть, вы пишете по ночам?.. Дядя Шура, если б вы были писателем…
Шут провел по своим волосам рукой, стали они у него серебристыми.
Он очки на нос надел и состарился.
— Ну?
— …и вам бы потребовалось вставить в книжку мерзавца, — уважительным голосом прошептала Ольга.
— Подлеца?
— Ага… — Ольгин голос задрожал. — Каким бы вы его сделали внешне?
— Я бы сделал его таким… пожалуй, немного усталым.
— Усталым?
— Ну да. У мерзавцев трудная жизнь.
— А внешне?
— Я бы сделал его остроумным. Если подлость не остроумна, она беспомощна. Я бы сделал его обходительным, энергичным и вежливым, кстати. Иначе его слишком легко было бы распознать.
— Я про внешность спрашивала.
— Это и есть внешность.
Они помолчали немного. Ольга дожевала бутерброд, стряхнула крошки с колен.
— Я бы не опоздала к началу занятий, — сказала она. — Но у нас на островах не было погоды. Пурга была. Самолеты не летали… Завтра я приду в школу. Учитель поставит меня у доски перед всеми ребятами. Расскажет им, кто я, откуда. А я буду смотреть в класс и буду видеть, как ребята перешептываются. Буду читать по губам слово «рыжая». Потом кто-нибудь самый смелый скажет громко: «Рыжая!» Класс засмеется. Учитель и я покраснеем, нам станет неловко за чужую глупость… Зачем, а? Почему так?
— Напрасно ты беспокоишься, — грустно сказал ей шут. — Ничего этого не случится. Ты ведь теперь не рыжая. Ты теперь черная.
Ольга провела рукой по волосам и бросилась к ступеням, которые уходили к реке.
— Куда ты? — крикнул шут, в этом крике его прозвучала тревога. Он быстро надел фуражку. — А ну, прекратить!
— Да я волосы вымою, — ответила Ольга снизу. — Пусть другие говорят, что они не рыжие. А я рыжая.
— На, возьми полотенце. — Шут достал из кармана полотенце, бросил его вниз и ушел.
Воробьи прилетели крошки клевать. Они разодрались, как водится. И, как водится, не успели попировать в свое удовольствие: к парапету подошли два бородатых парня с рюкзаками и подвесным мотором «Москва». Они сложили рюкзаки и мотор на траву возле кустов.
— Когда она обещала прийти? — спросил парень, у которого росла черная борода.
— В семь, — ответил другой, с бородкой разноцветной.
Парни уселись на парапет. Одежда у них потертая, будто прошагали они тысячу километров. Косынки на шее, как у туристов сейчас полагается, и шляпы на голове. Кроме всего прочего, была у парней гитара. Парни запели туристскую песню, подыгрывая себе на гитаре.
Спели.
Чернобородый увидел Ольгин свитер на камне.
— Кто-то свитер оставил. — Он взял свитер, помял его. — Шикарный свитер, где бы такой связать? Эй! — крикнул он. — Кто тут свитер оставил?
— Я, — ответила Ольга снизу. — Это мой свитер.
Парни перегнулись через гранит.
— Что ты там брязгаешься в нашей лодке? Не зачерпни воды.
Когда они обернулись, перед ними стоял гражданин в макинтоше. Макинтош переливался, менял окраску из зеленой в фиолетовую, как спинка жука-скарабея. И шарф и шляпа у гражданина были разноцветными и невпопад.
— Прекрасная осень, — сказал гражданин. — Люблю этот старинный парк. Поэзия… Извините, но я не понимаю: зачем вам, молодым людям, бороды? Зачем вам уродовать ваше лицо?
— Вы сегодня трехсотый, — сказал гражданину пестробородый парень.