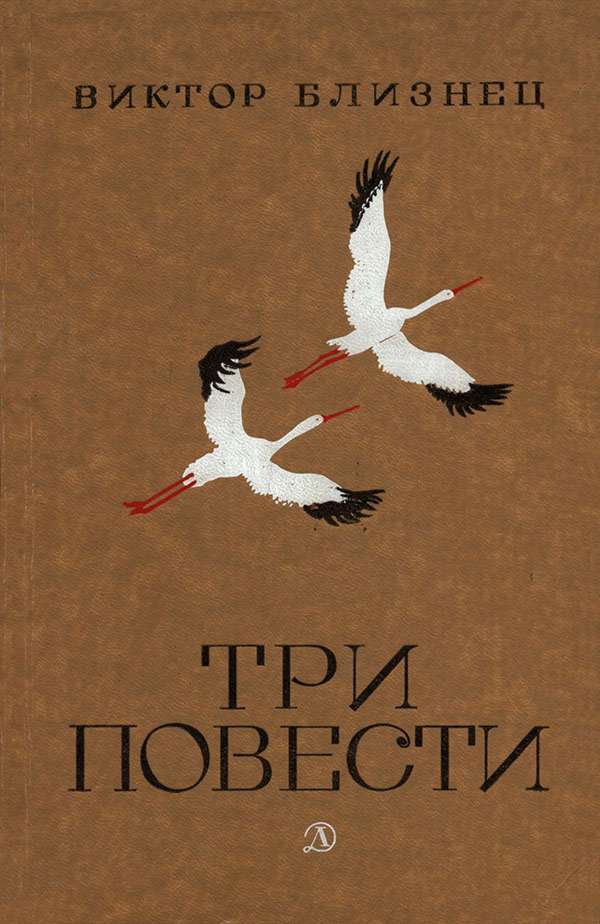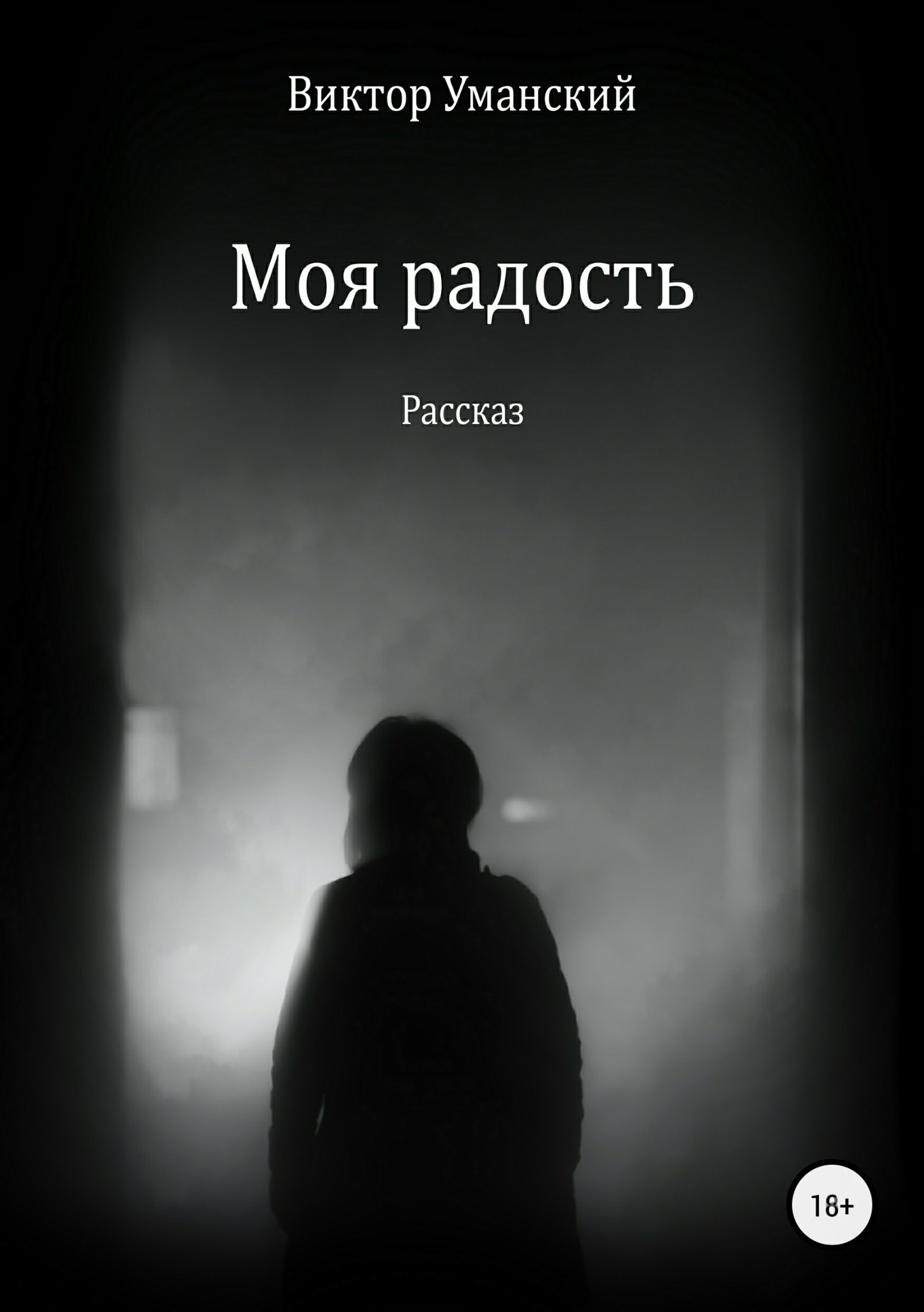он через некоторое время. — Не сердись. Я так просто. Чтоб ты не ходила за этим длинноногим. (Тут Женя не выдержала и хмыкнула.) А если говорить по правде, я тоже люблю твой город. Погляди-ка, погляди сюда, — он ткнул пальцем в слабо освещенный глухой переулок.
Там было тихо и безлюдно. И в этой тишине и безлюдье кружил на велосипеде парнишка. Нет, он не просто кружил. Он демонстрировал высочайший класс пилотажа: летал с закрытыми глазами, широко расставив руки, совсем не держась за руль. Вот он сделал один круг, второй, третий, и Женя сначала не поняла: почему он с таким упорством все кружит и кружит на одном месте? И только потом заметила: на одном из балконов, чуть освещенном, стоят девочки, они посматривают вниз, перешептываются. Ага! Это перед ними он демонстрирует «полет вслепую», выписывая с закрытыми глазами на маленьком клочке асфальта четкие «нули» и «восьмерки».
— Вот молодец! — заерзал Синько и заметил, что только один его дядька Синтюх Однозубый умел выделывать такие круги. — Дай, я прыгну к нему, покатаюсь на багажнике, — попросил он Женю.
— Не надо! Пошли отсюда.
— Все вы такие! — опять насупился Синько. — Любите покомандовать!
«Глупенький ты! — улыбнулась Женя и вспомнила, как Бен крался за нею. — Не надо мешать. У них своя игра».
Пошли дальше по переулку. Становилось все безлюднее, тише. Кое-где в маленьких двориках еще прыгали девочки, доигрывая в классы, кое-где стояли, подпирая стены, парни с гитарами, кое-где под лампочками, раскачивавшимися на проводах, сидели пенсионеры, со всех сторон окруженные мраком, и забивали «козла».
Женя свернула в следующий переулок. И вот на фоне вечернего неба возник четкий силуэт верхней станции фуникулера. А за ним — что-то бездонное, подсвеченное снизу… Оттуда веяло прохладой.
Они вышли на Владимирскую горку. И когда подошли к железной ограде, Синько ахнул.
Вот где действительно была красота!
Гора, а под горою — Подол, целый огромный город внизу на равнине. Он лежал весь в огнях, в мириадах огней, то рассыпавшихся бисером, то расстилавшихся дорожками, то свисавших живыми гирляндами. Город, полный огней, словно бы плыл в весеннюю ночь, за Днепр, в окутанные мглой просторы, откуда веяло речной прохладой, лесом, лугами.
И тут…
Тут Синько дернулся, выскользнул из Жениных рук и кубарем полетел по склону. Женя — за ним. Тут-то она обрадовалась, что надела не выходное платье, а старенькую кофточку; вдвоем они покатились по крутому откосу, визжа и барахтаясь, и были они одинаковыми чертенятами, и одинаково блестели у обоих глаза — от восторга, от детской радости.
А гора тихонько двигалась под тяжестью многотонного, гранитного, залитого огнями человеческого чуда — Города.
Нахохотавшись вволю, они заспешили к дому.
Никогда еще Женя не видела его таким перепуганным. Он задрожал, напряженно вытянул шею и, чуть не плача, залепетал: «Мое бугальце, мое бугальце!..»
Это произошло совершенно неожиданно. Они дошли до своей Стадионной и замерли: напротив их дома, в глухом дворике творилось что-то необычное. Горели мощные лампы, толпились люди, звучали громкие мужские голоса — можно было подумать, что идет киносъемка. Но нет, Женя сразу это поняла: ломали старый Кадухин дом, уже давно неприкаянно торчавший на фоне новых красивых зданий.
Бульдозер отползал назад, разгонялся и ударял в почерневшие стены дома. С треском, вздымая столбы серой пыли, рушилась трухлявая деревянная хибара, а заодно и забор и ворота, возле которых Вадька Кадуха любил стоять в знаменитой вратарской стойке. («Как совпало! — удивилась Женя. — Снесли старый „Коммунар“ и почти одновременно — это последнее Вадькино пристанище».)
Девочка завороженно смотрела на это веселое разрушение: бульдозер сгребал трухлявые доски и обломки кирпича, со скрежетом выворачивал почерневшие, глубоко вкопанные столбы. «Смотри, смотри, падает!» — хотела было сказать Женя, увидев, как крыша боком поехала вниз. Но не успела, потому что именно в этот момент Синько задрожал, задергался у нее в руках и сдавленным голосом пролепетал: «Мое бугало! Мое бугало! Оно там!» Синько дернулся с неожиданной силой, вырвался из рук и, как подстреленный, заковылял через дорогу во двор, где ломали дом. И Женя вспомнила: «Он же говорил, что прячет свой огонек где-то здесь, поблизости, а в том огоньке — вся его сила, и если кто-нибудь затопчет бугало, Синько умрет…»
Женя тоже кинулась было к Кадухиному двору, однако войти в него не решалась: вся территория была огорожена колышками с натянутой на них веревкой (знак: «Осторожно! Прохода нет! Идут работы!»), а там, за загородкой, ловко хозяйничали здоровенные дядьки в брезентовых робах. А Синько… А Синька нигде не было видно: может, он забрался в развалины и роется там, ищет свой огонек, а может, уже нашел и побежал домой.
И Женя, все время оглядываясь, быстро направилась к своему подъезду.
БЕН: ИЗМЕНА И ОДИНОЧЕСТВО. КТО ЗНАЕТ, ОТКУДА ПРИДЕТ ПОМОЩЬ?
Два момента в своей жизни Бен хотел бы забыть навсегда, выбросить из головы и никогда не вспоминать.
Первый — это как они залезли в Т-34 и сторожиха забарабанила палкой по броне, а Бен — к своему удивлению и ужасу — обнаружил, что тот разнесчастный курсантик его обманул. Никакого мотора в танке не было!
Не успел Бен прийти в себя от первого потрясения, как Кадуха резким боксерским ударом отправил его в нокдаун, головой в боевое отделение танка. «Идиот! — прошипел Вадька. — Свяжись с такими!»
Да, выкинуть из головы, забыть и никогда не вспоминать.
Второе, что не давало покоя, — сцена в милиции.
Когда их, чумазых, в ржавчине и мазуте, доставили в милицию, выстроили там в ряд (как были — в трусах и в майках) лицом к столу, за которым восседал сержант Рябошапка, и когда сержант Рябошапка угрюмо крякнул и произнес из-под козырька: «Ну-с, голубчики, рассказывайте» (а рядом — два милиционера с наганами в кобуре), — случилось что-то невероятное. Сковало страхом. Замаячило: вот прямо так, голых, в подвал… Панченко и Зинчук отвернулись, завсхлипывали, натирая кулаками глаза, размазывая по физиономиям мазут и черную водичку. Бен крепился, но горькие мальчишечьи всхлипывания подействовали на него так угнетающе, а от цементного пола тянул такой жуткий холодок, что и он сморщился, скривился, а в глазах показались слезы. И тут они все трое разом забормотали, что они не хотели, не думали, что больше не будут и т. д. А Кадуха отодвинулся и, со злостью глядя на раскисших дружков, прошипел: «Предатели!» Словом, как-то само собой получилось, что они, все трое, ничего такого не хотели, а потянул их Кадуха.
Вот бы забыть и никогда не вспоминать!
И еще был один неприятный