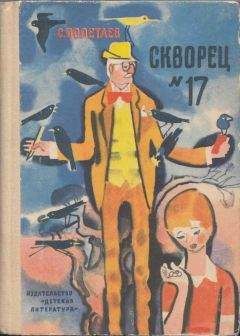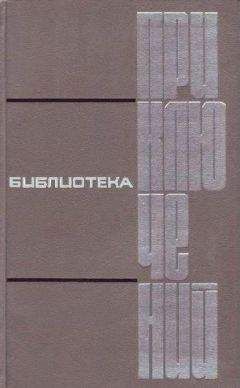Истратов встал, довольный. Важные дела сделал.
— Брёвна бы мне для мосточка через ручей, да извини — пустяки всё это…
— Это почему же пустяки? — Клычков снимает трубку и энергично дует в неё. — Гурий? Кныш у тебя? Ты вот что, на денёк отпусти его в школу. Как так? А где он? — И, положив трубку, извиняясь: — Тебе какой мосточек?
— Через овраг на Жуково. Ребята ходят, падают.
— Тьфу ты! — смеётся Клычков. — Всего и делов. Да вот Кныша, понимаешь, нет. А сами не можете? Н-да. Ну ладно, через неделю, как вернётся, прямо же к тебе и пошлю. Будь спокоен, всё сделаем.
Неделя вроде пустяк, а ждать нельзя, и Ефим идёт к деду Мануйле, у которого свой конь — от районной конторы заготутиля. От колхоза он не зависит, гоняет целыми днями по деревням, меняет промтовары на тряпьё, невыделанную кожу, рога и копыта.
Дед жмётся.
— Конь-то у меня плёвый, к тяжёлой работе непривычен. Ну ладно, — всё же обещает. — У Клыка попроси брёвен-то с десяток, а мне лишек отдашь. Сарай эвон подбился снизу, поменять надо…
Захватив исправленную речь и контрольную по химии, Истратов идёт в правление. Клычков приветливо кивает — садись, дескать. Потом пристально смотрит на Ефима, что-то вспоминая, и хмурится.
— Федька в школу пару дней не походит. Извозился где-то, подлец, опять простудился. Что ни день, из школы придёт, мать одёжку выкручивает. Ерунда какая-то…
Истратов открывает портфель, кладёт на стол речь и контрольную.
— Это уж я виноват, — улыбается Истратов. — Мосток через ручей не проложил, а они, прыгуны, так и скачут через ручей. Вот и твой доигрался…
Григорий багровеет и вызывает Германа Изотова.
— Сейчас же мне Кныша достань! И чтобы немедля в школу!
Зажав под мышкой портфель, Истратов идёт по деревне, шлёпая по лужам. Из окошка кричит ему Пантелей Венедиктыч.
— Ефим, а Ефим, заходи повечерять…
— А что такое?
— Дело-то какое: пенсию поднимают мне…
— На здоровье, Венедиктыч.
— Так ты заходи, будь гость дорогой…
— Некогда мне, Венедиктыч.
Истратов торопится к дому на косогоре, рядом с бывшей церковью и садом. Открывает калитку, проходит в просторные сенцы и долго оттирает метлой сапоги.
В избе никого. Печь, ещё не остывшая от жара, стол возле окна, посуда, прикрытая рушником в петухах. Портрет Ленина на стене, на подоконнике приёмник. Истратов прислушивается — из светёлки тихое сопение. Он снимает сапоги, портянки заталкивает в голенища и топает по половицам в светёлку. Коврик, сундук, рамка с карточками на стене. На постели, перевязанный бабьим шерстяным платком, Федька Клычков — горячий весь, красный, белые волосики растрёпаны на влажном лбу. Он открывает глаза, испуганно смотрит на Истратова.
— Мамки нету.
— Я не к ней, я к тебе.
Федька тужится подняться и снова падает на подушку. Истратов присаживается на табуретку, ладонью касается Федькиного лба.
— Где же ты простыл?
Федька пыхтит, морщится и прячет глаза.
— Прыгал небось?
— Мамка сейчас придёт.
Федька беспомощно пытается подняться, чтобы взглянуть в окошко.
— Лежи. Без мамки обойдёмся.
— Вы не ругайтесь.
— Я не ругаться пришёл. Проведать.
— Это всё Мишка. «Пойдём, — говорит, — дураки только дорогой ходят».
— Ладно, ладно, заливай. Чем это от тебя пахнет так?
— Мамка подсолнечным маслом натёрла. Чтобы не кашлял.
— Ну, ну. Это хорошо. Вкусно пахнешь. Не скучно лежать?
— Нет.
— А об чем думаешь?
— Да так…
— А всё же?
Федька жмётся, с трудом выпрастывает руку из-под платка, вытирает мокрый лоб, конфузится.
— Я скажу, а вы смеяться не будете?
— Если что смешное, может, и посмеюсь.
— Нет, вы не смейтесь.
— Ну давай, давай.
— Я такую штуку одну придумал. Чтобы летать.
— Ну-ну!
Федька подтягивается, упирается спиной в подушки, сквозь платок виднеется тельце. Истратов подтыкает с боков одеяло и радостно-внимательно ждёт. Мальчонка совсем оттаивает, глаза его горячечно брызгают от возбуждения.
— Я как закрою глаза, так всё прыгаю и прыгаю…
— Это как же?
— А вот так. Прыгаю и в воздухе держусь как птица. Отчего так — птица летает, а мы не можем? Вы мою Маньку не видели?
— Кто такая?
— Я вам сейчас, — он куда-то порывается, но Истратов укладывает его.
— Лежи, лежи, ты мне так, на словах.
— Это у меня галка живёт. Наверно, под кроватью.
Федька выжидательно смотрит на учителя. Истратов лезет под кровать, кряхтит, видит — галка, пытается взять её, но она шипит и забивается в угол. Он вытаскивает её и отпускает. Галка забивается за сундук. Истратов отряхивается и садится рядом.
— Ну и об чем же ты думаешь? — возвращает он мальчика к разговору.
— Я смотрю на Маньку и думаю, всё думаю. Вот бы крылья к рукам приделать и летать. Ну, не так, как самолёт, а чтобы прыгать, понятно?
— Это, значит, как овраг там, канава или лужа? А ещё бы разогнаться и на дерево сигануть?
— Во-во! — смеётся Федька.
— Это ты хорошо придумал. А вот слыхал насчёт поезда — не простой, а шар огромный, с избу, катится себе по канавке, а в нём пассажиры сидят?
Они долго разговаривают, разбирают, придумывают. Федьке жарко, он теребит платок, сдвигает набок, чтобы свободнее размахивать руками. Но вот слышится топот ног во дворе. Мальчик настораживается, поправляет платок на груди и влезает под одеяло.
— Вер-р-р-рка! — кричит Манька из-за сундука и встряхивает крыльями.
— Это моя мамка идёт. Её Манька всегда узнаёт. Только вы не говорите, что я через ручей прыгал, ладно?
Входит Вера, молодая, крепкая, плащ весь в каплях, с бровей вода. Смотрит удивлённо.
— Ты, что ли, Ефим? Ай случилось что?
— Да чего ж случилось? Парня навестил, вот и всё. Посидели мы с ним, посудачили. Он мне одну штуку мудрёную рассказал…
Глаза Веры радостно светятся.
— Выдумщик он, всё что-то придумывает…
— А ты, мам, слыхала насчёт шарового поезда? Это такая штука, два шара, один…
— Постой, дай раздеться. Да ты куда, Ефим? Сейчас пообедаем вместе…
— Некогда. Ну, будь здоров, Федя! Моё почтение!
— Моё почтение! — кричит Федька.
— Это ты хорошо подсолнечным маслицем придумала. Надо тут ещё кое-кому подсказать. Пойду я…
Накручивает портянки, надевает сапоги. Идёт по улице, месит грязь. Моросит дождик. По времени ещё день, а свету мало, туман ползёт по деревне, слякоть словно бы с земли поднялась и в душу лезет, а всё одно — легко на душе. За Венедиктыча радостно. И к Петренкам зайти бы надо — как там Дима? Постоял посерёдке улицы, улыбнулся — Настёнку вдруг как бы увидел — сидит, бедняга, запертая, наигралась и скучает одна. По дороге, однако, вспомнил Мишку Сырцова. Тоже ведь в школу не ходит, прыгун окаянный. И решил заглянуть к ним, проведать, а заодно и насчёт подсолнечного масла подсказать.
Утром, проверив клуню, где вместе с курами жили голуби, Митька недосчитался двух турманов и сразу решил, что их увёл Андрей Лубенец, восемнадцатилетний парень, который второй год впустую сдавал в техникум, а сейчас лоботрясничал, ожидая, когда его призовут в армию, и развлекался, гоняя голубей. Андрей, зевая спросонок, выслушал Митьку и, ни слова не говоря, вытолкал его вон.
— Всё равно уведу, дурак! — кричал Митька из-за ограды, размазывая слёзы.
— Я вот тебе за дурака подсыплю, — грозился Андрей. — Вот не поленюсь, догоню…
Позавтракав, Митька заглянул в сарай, чтобы покормить хомячка, и обмер — хомячка в клетке не было, а на открытой дверце болтался клочок шерсти — не кота ли Банзая? Но сколько он ни искал кота, чтобы проучить его, найти его никак не мог. О голубях Митька уже не вспоминал, томимый нестерпимым желанием найти кота, желанием тем более острым, что с Банзаем расправиться было просто — это не Андрей с его пудовыми кулачищами.
Так ничего не добившись, он пошёл в школу. Шёл задумчивый, сам не свой. У крылечка ждала его Танька Акулова, с которой он сидел на одной парте, но Митька отвернулся, делая вид, что не замечает её.
— Ты чего это, Мить? Обидел кто?
— А твоё какое дело? Чего ты вяжешься ко мне!
— Дурачок! И не вожусь я с тобой!
Танька увидела Катьку, с которой совсем не дружила, и побежала, опередив Митьку, независимо тряхнув косичками. Теперь Танька три дня разговаривать с ним не будет, придётся Митьке домой к ней идти и подлизываться — ничего не поделаешь, без неё совсем пропадёт. Танька занималась с ним как с отстающим и порой давала ему списывать уроки.
И до того нехорошо стало Митьке, что взял он да и заплакал. Шёл и хлюпал на всё село, благо никто не слышал. Всё плавало в тумане горячих слёз: и клёны вдоль плетней, и гуси на пруду, и не заметил, как из тумана объявился слепой Семён Кустов. Склонив голову набок, Семён осторожно выставлял ноги и тыкал перед собой палкой и улыбался во всё своё корявое, изрытое дробью лицо с кровавыми рубцами вместо глаз. Он остановился, дожидаясь, пока Митька подойдёт к нему, подбородок вскинул, прислушался.