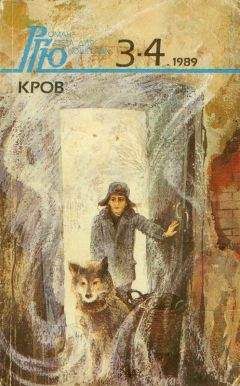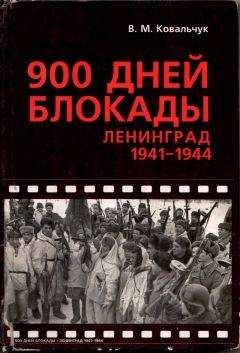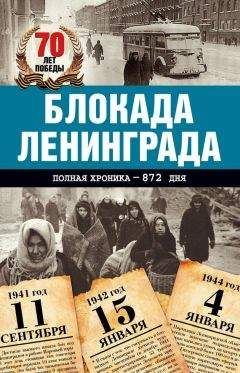Мы шли под грохот канонады.
Мы смерти смотрели в лицо.
Вперед пробивались отряды,
Спартаковских смелых бойцов..
Потом выступил отец. Он говорил о героизме красноармейцев в боях у Хасана и Халхин-Гола, о танкистах, летчиках, и Володя ждал, когда же он расскажет про то, как сбил двух япошек, и как пуля раздробила ему руку, и как отец выпрыгнул из горящего самолета, а потом… Но отец ничего такого и не рассказал. Прямо как нарочно! Все говорил и говорил про других. Все там, оказывается, были героями, только не он. Обидно просто… Может, отец о своих подвигах в самом конце сообщит?.. Промолчал!
— А в Испании вы были? — спросил Герка. — Я слышал, что наши летчики там воевали. Это правда?
— Конечно же, мы многим помогали республиканской Испании: продовольствием, разным снаряжением… — уклончиво ответил отец. — Республиканская Испания боролась против фашистов, и мы не могли остаться в стороне.
— Вот бы мне туда, — с завистью сказал Герка.
— Все вопросы? — спросила Зоя.
— А вот еще один… — выкрикнул Шурик и заговорщицки подмигнул Герке. — Вот вы сказали, что в Монголии воевали против японцев за монголов, а в Испании — за республиканцев…
— Я этого не говорил.
— …выходит — вы наемный солдат? Ландскнехт?
В зале раздался возмущенный шум. Зоя колотила карандашом по графину. Володин отец тоже поднялся. Все стихло, и он сказал:
— Я и многие мои друзья воевали в Монголии, а может, и в Испании, не потому, что нас кто-то нанял. Нет! У нас, у всех свободолюбивых народов, есть один общий враг: фашизм. Мы, трудящиеся всего мира — братья! В бой, против фашизма! — вот наш лозунг. — В зале опять стало шумно. Герка треснул Боброва книгой по спине и выкрикнул: «Тебе ясно?..» Володин отец поднял руку, проговорил: — Учитесь стрелять, бросать гранаты! Родина должна быть уверена: если грянет бой, рядом с отцами будут их сыновья и дочери. Все? Вопросов больше нет?
— Все! Долой фашистов! Они не пройдут! Но пасаран! — крикнул Герка.
— Но пасаран! — подхватил весь зал.
Потом начался концерт.
— Гера, Рогов вернулся, — сказала мать, открывая дверь. — Как быть-то, а? Говорит, что хочет остаться… Как быть-то?
Лицо у нее было встревоженным, она улыбалась странной, жалкой улыбкой и все поправляла, прятала под косынку прядки волос.
Герка скинул куртку, пошаркал подошвами о половичок, принюхался: пахло табачным дымом. Рогов? И еще курит в комнате! Шастал, шастал по свету, а теперь… Он затянул потуже ремень, отодвинул в сторону мать, которая, все так же жалко улыбаясь, заглядывала в его лицо, и вошел в комнату. Кряжистый, в лохматом свитере, который распирали широченные плечи, из-за стола медленно поднялся мужчина. В лицо Герки взглянули спокойные глаза, по грубому загорелому лицу скользнула настороженная улыбка. Русая бородка, русые, с желтизной, усы. Крепкие зубы сжимали трубку. Так вот какой он, его отец! Почему-то в воображении Герки отец представлялся хлипким дохлячком с мерзким лицом. Каким же еще может быть человек, которого ненавидишь? Рогов протянул руку и железной хваткой стиснул Теркину ладонь. Тот сжал зубы и сам стиснул что есть силы жесткую, как доска, ладонь Рогова.
— Я сейчас произнесу мерзкое слово, которое никогда в жизни никому не говорил, — густым спокойным голосом сказал Рогов. Трубку он вынул изо рта и положил ее на стол. — Но я произнесу это слово: простите меня. И ты, Соня, и ты, сын.
Герка поморщился.
— Простим его, сынок, а? — торопливо сказала мать.
— Поговорим, может, как мужчина с мужчиной? — предложил Рогов.
Герка взглянул на стол: водка, колбаса на тарелке, шпроты. Очень хотелось есть, и он проглотил слюну. Сощурив глаза, опять взглянул в лицо Рогова. Простить?.. Если был бы хлюпик, но как мог этот сильный человек, как он мог?.. Попыхивая дымом, Рогов о чем-то говорил. Герка тоже скрестил руки на груди и стал прислушиваться к словам:
— …в жизни ведь всякое бывает. Не так ли? Вот и я… И вот я вернулся. Навсегда. Где только я не побывал за эти годы! И на Камчатке охотился, и на Командорах бил морских котиков, и золото мыл на Воркуте, и… Привез много денег. Купим новую мебель, одену я вас, обую… По рукам, сын? Что молчишь? Ведь люди не ангелы, бывает, и совершают ошибки.
— Гера. — Мать тронула его за рукав. — Я прошу.
— Пойду подмету улку, хорошо? И пока я там, пускай этот человек уйдет, — сказал Герка. — Хорошо, мама?
…Рогов ушел примерно через час. В куртке нараспашку, без головного убора, с фанерным чемоданом в руке. Шел, дымил трубкой. Взглянул в сторону Герки, остановился, но тот повернулся к нему спиной, а когда Рогов скрылся за поворотом улицы, Герка вдруг почувствовал: ему очень не хочется, чтобы этот человек уходил…
Незаметно летело время. Накатился шумный, веселый май. Праздничная демонстрация, открытие парков и садов. Так немного осталось до окончания учебы, до лета, до отдыха! Как всегда, так и в этом году Володя собирался поехать к деду Ивану, отцу матери. Жил он недалеко от Гатчины, на небольшом лесном хуторе. Жаль только, что на целых три месяца придется расстаться с друзьями. С Ниной.
Володя глядел в окно и прислушивался к просыпавшемуся дому. Сколько живых, бодрых, родных и любимых звуков! Вот, звонко дребезжа, прокатился по улице «подкидыш», и стекляшки в люстре ответили ему весело и задорно: «Дзннь-дзинь-дзинь!» Фыркнул двигателем и мягко прошуршал шинами автомобиль: это Ваганов уехал на работу. Уже с месяц как за ним по утрам приходит машина. Что у него за такие важные дела, что и воскресенье надо быть на заводе? Голуби заворковали на крыше, воробьи чирикают… гулко пролаял в Собачьем переулке первый выведенный на прогулку пес… «Шра-шра — шра» — донеслось со двора: мать Герки начала уборку. Чей-то смех, говор… Сейчас Гриньков затрубит в свою трубу, и весь дом всполохнется, захлопают двери, и по лестницам застучат торопливые шаги жильцов.
«Тра-та-ра-ра-аа!» — разнесся звонкий голос трубы. Подъем!
Володя отбросил одеяло, спрыгнул на пол. Пора на зарядку. Подбежал к окну. Солнце сияло вовсю, и если поглядеть влево, то можно было увидеть крыши двух — и трехэтажных домов. Покрашенные в зеленый цвет, они были похожи на волны океана, всхолмившиеся под порывами теплого ветра. И, как корабли, вздымались из этих зеленых крыш-волн многоэтажные дома. Город как море… Сила! А в окне пятого этажа флигеля «А» виднелась высокая фигура музыканта Гринькова. Играет.
Однако где же ребята? Сегодня воскресенье, и Ник предложил всем классом отправиться за город. А, вот и Герка. Володя кинулся на кухню за свертком с едой…
Теплынь-то какая. Вроде как лето. А какой за городом воздух! Вкусный, душистый. Узенькая дорожка вела от станции в лес. Ник шел впереди; за ним, чуть поотстав, девчонки, и среди них — Нина, на била в синем, в белый горох платье, а волосы как тогда в цирке, были легко разбросаны по плечам, и от этого Нина казалась еще привлекательнее. Герка, лишь только вышли из вагона, демонстративно закурил трубку, а Колька Рыба пытался на ходу играть в «маялку».
Ник все увеличивал темп, но спешить никуда не хотелось, и как-то так получилось, что вскоре Володя, Нина и Жора отстали от всех. Они шли по тихой, усыпанной хвоей дорожке. Нина спросила Жорика, как наиболее эрудированного человека в классе, что же все-таки такое любовь, и Жорик, который на эту тему мог разговаривать часами, проявляя удивительно глубокие знания, отчего-то говорил с Ниной вяло, неубедительно.
— В вопросах любви, Нина, я разбираюсь не особенно хорошо, — мямлил он, возмущая Володю. — Видишь, чтобы какое-то явление изучить досконально, его надо познать… э-ээ, практически… Мы же еще, так сказать, недостаточно взрослы… Кстати, а как поживает хомячок?
— О, хомячок поживает великолепно. — Перепрыгнув канаву, Нина подобрала еловую шишку, кинула ее в лес, где между деревьями шли рядом, говорили о чем-то Жека и Ирка Неустроева, а потом воскликнула: — Но вот что удивительно: когда Ромео и Джульетта полюбили друг друга, Джульетте было четырнадцать лет. А мне уже пятнадцать, и мне еще никто не признавался в любви.
Володя покраснел, а Жорик стесненно пробормотал:
— Вот когда хомячки укладываются в зимнюю спячку…
— Ах, хомячки, — засмеялась Нина, поднимая новую шишку. — Жорик, мы ведь не хомячки. Мы ведь давно проснулись!
Мелькнув икрами, Нина нырнула под лохматые лапы елей.
— Джульетте было четырнадцать? — спросил Володя у Жорика.
— Вне всяких сомнений, — уверенным тоном, как обычно, сказал Жорик. — Четырнадцать лет — возраст любви. Так, например, считает и Александр Сергеевич. В четырнадцать лет в первом своем стихотворении он писал: «Так и мне узнать случилось, что за птица Купидон; сердце страстное пленилось; признаюсь — и я влюблен…»