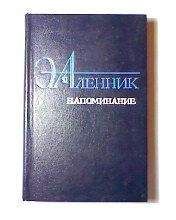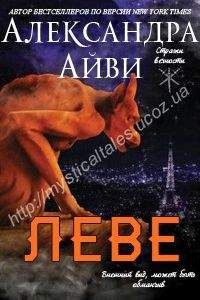Грибов явился без единой царапинки.
Но был в их классе мальчик, который явился в тот день домой с разбитым носом, — это Алёша Харламов.
Дело было так.
Лёва, бежавший с двумя портфелями, всё-таки нагнал, наконец, Лёню Грибова во дворе какого-то дома.
Остальные мальчишки тоже вбежали за ними во двор.
Лёва швырнул наземь портфели, снял и бросил наземь пальто и крикнул Грибову:
— Становись!
Грибов не снял пальто, не стал напротив Лёвы, а увёртывался от ударов, нагибался и приседал, когда Лёва бросился к нему с кулаками.
Ударив его раз и другой, Лёва потребовал:
— Ну бей! Чего не бьёшь?
Грибов весь скорчился от страха. Плечи его поднимались всё выше, а голова словно врастала в туловище. Он прижал к себе руки и не замахивался на Лёву.
Тогда вышел вперёд Алёша Харламов, который и не кричал вовсе «Жених и невеста» и вообще никогда никого не дразнил, а просто любил помериться силой.
Началась честная драка мальчишек…
Лёва победил. И не потому, что он был сильнее Алёши Харламова, а потому, что мстил за обиду в то время как Алёше не за что было мстить.
Когда Лёва положил Алёшу Харламова на лопатки и сел на него верхом, не ему, а Грибову он крикнул:
— Вот тебе, Мухомор!.. Поганкин!
Таким образом, Грибов заработал вторую фамилию и не заработал ни единой царапинки.
А что лучше заработать, — это вы решайте сами, потому что бывают в жизни такие минуты, когда приходится делать выбор только самому.
Глава двадцать шестая. Отряд требует ответа
На другой день, когда кончились в школе уроки, Лёва буквально вырвал у Маринки её портфель и стал с ним посреди раздевалки. При этом Лёва поглядывал на мальчишек и насторожённым взглядом чующего опасность оленя, и грозным взглядом льва, готового к броску, ну, скажем, на шакала. Хотя ручка портфеля прямо-таки жгла ему пальцы, он всё крепче сжимал её и ждал, пока Маринка оденется.
А она заявила:
— Без тебя обойдусь! Ну кто тебя просит? — и хотела было отобрать свой портфель, но, увидев выражение Лёвиного лица; поняла, что ничего хорошего из этого не выйдет.
Ни о каких женихах и невестах и звука не было слышно ни в этот день, ни на завтра, ни на послезавтра.
И всё же Маринку с Лёвой не оставили в покое. Девочки шушукались, докладывая друг другу об услышанных словах, которые тихо говорил Лёва Маринке или Маринка Лёве. Слова были таинственные: «Авария», «Он скоро будет пробовать», «Испытание при всех», «Ой, страшно; наверно, и розовенький там будет!»
Но больше всего заинтриговал девочек разговор Маринки с учительницей, Зоей Ивановной, на занятии хорового кружка. Эта учительница очень хорошо играла на рояле, но была рассеянной и вечно искала ноты. У неё были коротенькие, лёгкие волосы, похожие на цыплячий пух, а голос тоньше, чем у любой из её учениц.
Ребята не боялись её, не стеснялись, не ходили при ней по струнке. Она их не отчитывала, не ругала, но иногда, перестав аккомпанировать, она беспомощно опускала на колени руки и сидела в таком огорчении за ребят, что ребята начинали огорчаться за самих себя.
— Ну, как по-вашему, хорошо вы поёте? — спросила Зоя Ивановна.
— Совсем плохо, — сказала Маринка.
— Чайковский бы в гробу перевернулся, если б услышал, как его поют…
— Перевернулся бы, — согласилась Маринка. — Надо петь, чтобы все, кто слушает, переживали каждое слово, вот будто это на самом деле. А когда одни поют, а другие слушают и не переживают, — это не…
Маринка запнулась.
— Продолжай, — попросила Зоя Ивановна. — Что ты хотела сказать?
— Очень такое слово… Я хотела сказать, что тогда уже не искусство.
— Ты сама это поняла?
— Почти что сама, но не совсем. Один человек…
Маринка снова запнулась и обрадовалась, что рядом нет Лёвы, что он не принимает участия в хоровом кружке. Он терпеть не мог, когда она таинственно говорила: «Один человек».
— Не хочешь его называть — что ж, не надо, — сказала Зоя Ивановна. — Но хорошо, что ты с этим человеком знакома.
— Ещё бы! — ответила Маринка.
С девочек было довольно. Их терпение лопнуло.
На первом же сборе отряда Маринке и Лёве был учинён горячий и строгий опрос:
— Что это, на самом деле, за секреты от своих же товарищей-пионеров?
— Что это за человек, у которого какие-то аварии, пробы и испытания при всех?
— А если аварии, так почему он понимает в пении?
Большеголовую рыжую девочку осенила догадка:
— Наверно, он певец и вдруг потерял голос — вот вам и авария! А потом, наверно, голос вылечился, и он будет держать испытание при всех. В театре, при всех артистах, — ясно? И какой-то Розовенький там будет, его больше всех боятся!
Лёва представил себе Журавленко поющим в театре, при всех артистах, сжал губы, чтобы не расхохотаться, но губы не выдержали напора смеха, и он оглушительно фыркнул.
Это и гордая усмешка Маринки окончательно вывели ребят из равновесия. Даже Алёша Харламов и тот крикнул:
— Нечего отфыркиваться! Без никаких, отвечайте, — кто он? Если не певец, так как он смеет допускать аварии?
Ребята подхватили:
— А если допускает аварии, так почему вы к нему бегаете? Кто он вам?
— И кто этот Розовенький?
Лёве уже было не смешно. Он разозлился.
— И буду бегать. Знаете вы, какая эта авария? Хотел он, что ли, её допустить? Если б не Розовенький, — не пришлось бы ему всё делать одному… Генька, у тебя с собой мячик, — давай покажу, чего он не учёл.
— Ну как будто такой ерунды! А из-за неё получилась авария, — поспешила добавить Маринка.
Она перехватила целлулоидный мячик, который Геня протянул Лёве, и потребовала:
— Следите внимательно.
— Сам покажу. Надо правильно рассчитать силу, — сказал Лёва и отобрал у Маринки мячик, при этом тоже правильно рассчитав силу.
В точности как Журавленко, он ударил об стену мячиком и почти теми же словами, что и Журавленко, объяснил, какая с виду малость не была учтена.
Посмотрев и выслушав всё это, ребята решили, что речь идёт о мастере спорта, а авария — это проигранный им в результате недоучёта каких-то там тонкостей матч, и к тому же ещё в решающем соревновании. Непонятным для них теперь оставалось только одно: играл ли мастер спорта с Розовеньким или Розовенький был пристрастным, несправедливым судьёй?
— Сами спрашивают и сами не дают говорить! — в досаде закричала Маринка. — Вовсе он не мастер спорта, а знали бы вы, какую он делает машину!
Ребята зашикали друг на друга и начали организованно, толково расспрашивать: что это за машина, для чего она, что она сможет делать или что на ней можно будет делать?
Маринку так и подмывало хвастнуть всем, что она знает о машине и о Журавленко.
Лёва заметил это. И, чтобы Маринку не подмыло окончательно, он стукнул носком своего чёрного ботинка по каблуку её бежевого ботинка, опять точно рассчитав силу.
Маринка гневно на него посмотрела, шепнула:
— Без тебя знают.
А ребята возмутились:
— Что это ещё за знаки?
— Вас по-пионерски спрашивают, и нечего перешёптываться, отвечайте как следует!
И вдруг Лёва искренне, горячо сказал:
— Давно хочу вам про него рассказать. Хочу — и нельзя.
Двадцать голосов закричало:
— Почему нельзя?
Маринку осенило:
— Если бы вы были хорошими пионерами, знаете, что бы вы сделали? — спросила она и сама поскорей ответила: — Вы бы все, как один, закричали: «Не смейте говорить, не смейте!» Потому что мы дали этому человеку слово. Он попросил, потому что из-за Розовенького делает эту машину, знаете, где? Вот в такой комнате, как этот класс — нет, даже ещё меньше!
Может быть, потому, что каждый решил вести себя, как хороший пионер, а может быть, потому, что ребят заинтересовал Розовенький, они захотели узнать, — что же он, нарочно мешает? Нарочно вредит? А если это так, что же тогда все кругом смотрят?!
Маринка ответила, что, по её мнению, Розовенький нарочно вредит.
Лёва ответил, что, по его мнению, — тоже. Но это ещё надо выяснить. Он пообещал, что, как только выяснит, он расскажет ребятам о Розовеньком. И, как только можно будет, — а это будет уже скоро, после испытания при всех — он расскажет ребятам о человеке, который в трудных условиях делает замечательное дело.
Глава двадцать седьмая. Общественная мастерская
Папку со своим расчётом Журавленко получил с такой надписью: «Сделан оригинально. Всё верно».
Прочитав такое заключение специалистов, Шевелёв с облегчением вздохнул, Кудрявцев заработал ещё веселее, Маринка с Лёвой шумно возгордились за Журавленко, а он сам принял это как должное.
К тому времени у Кудрявцева кончился отпуск, и он приходил помогать Журавленко по вечерам. А Михаил Шевелёв — днём. Курсы у него были вечерние.