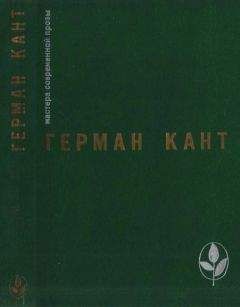Илька пришел ко мне в тот же вечер. Рядом с домом, в котором мы снимали квартиру, находилась пустошь, заросшая бурьяном. В гуще этого бурьяна мы и засели с Илькой. Начал он с того, что принялся меня ругать.
— Кричишь на весь народ: «Илька, Илька!» Какой там Илька, когда я уже давно Семен. Никакого у тебя понятия о конспирации нет. Вот такому доверь секрет, он сразу всех провалит.
— Но я же, Иль… то есть Семен, ничего о тебе не знал…
— А не знал, так и молчал бы. Или подмигнул бы, что ли. Ну ладно, кажется, все кончилось благополучно. Только вперед будь умней. Рассказывай.
— Что ж тебе рассказывать? Мне рассказывать нечего. Ты сам мне расскажи.
— Чего рассказывать-то?
— Но ведь я не знаю даже, куда вы все пропали. И ты, и отец твой, и Зойка с бабкой. Как в воду канули.
— Ничего мы не пропали. Все живы и здоровы. Только пришлось поменять вывески и местожительство.
— Какие вывески?
— Ну, имя, фамилию… А ты как думал? Сбежать из тюрьмы и спокойвдакько ходить себе по городу?
— Так вы в тюрьме сидели?
— Нет, у жандармского полковника на именинах гуляли. Ты знай про меня одно: я приехал сюда из Калужской губернии на заработки, работаю на металлургическом заводе подручным слесаря, зовут меня Семен, по отцу Захарович, фамилия Сытников. На суд сегодня попал потому, что шел мимо, увидел толпу — ну и завернул. Про тебя я сегодня узнал, что ты в том суде писцом работаешь. Интересно, что ты за птица. Может, такого же полета, как тот присяжный поверенный?
— Чеботарев мне такой же враг, как и тебе, — с достоинством ответил я.
— Ну, тогда мне жалеть не приходится, что вытащил тебя из-под лошадиных копыт и в больницу отправил.
— Так это ты меня спас? — взволнованно сказал я. — И даже не раз, а два раза в один день: и тогда, когда казак замахнулся на меня саблей, и когда меня свалила лошадь!
— Ну, пошел считать! — засмеялся Илька. — Чего доброго, до десяти насчитаешь. — И недовольно сказал — Не люблю я этих слов: «спас, спас»… Просто выручил товарища — вот и все. А ты б не так поступил?
— Нет, Илька, что там ни говори, а я тебе жизнью обязан, — продолжал я настаивать.
— Ты вот лучше скажи, зачем поступил в такое пакостное место, как суд?
— Это так, временно, отцу в угоду. Я скоро в деревню уеду, учить ребят буду.
— В учителя? В деревню? — Илька пододвинулся ко мне поближе. — Подожди, это интересно. Гм… Даже очень интересно… Ты нам пригодишься.
— А пригожусь, так берите меня, — твердо сказал я.
— И возьмем, — почти сурово ответил Илька. Он помолчал и уже мягко, по-дружески попросил: — Расскажи, Митя, о себе: как ты это время жил, что делал, о чем мечтал. Худющий ты такой же, как и был. Много думаешь, что ли? Много думать, может, и не обязательно. Индюк тоже думает днем и ночью, а что толку? Все равно его съедят. Надо правильно думать — вот в чем задача.
Я рассказывал о себе все, что мне казалось значительным. Не умолчал и о случае с булавкой. Правда, рассказывая об этом, я опасался, как бы Илька не высмеял меня. Но он отнесся к моему поступку очень серьезно, даже, как мне показалось, сочувственно.
— Я бы, конечно, так не сделал, — сказал он. — Но есть смысл и в том, как ты поступил. Разве заранее угадаешь? Может, твоя булавка и открыла б ей глаза на жизнь. А это было б куда важнее драгоценного камушка. Ну, не вышло, значит, так тому и быть. — Он помолчал и лукаво спросил: — А не та ли это краля, на которую ты засматривался около женской гимназии?
— Та, — признался я.
— Ишь ты! Дело, значит, давнее… — Он опять помол. чал, как бы обдумывая что-то, и решительно сказал: — А Зойка лучше! Куда там! Таких, как Зойка, может, и ка свете больше нет!
— Где она, ты знаешь? — встрепенулся я.
— Знаю. Но сказать тебе пока не могу. Не обижайся, Митя: не могу, понятно?
— Понятно, — ответил я упавшим голосом. — Я подожду, когда мне будут доверять, как доверяют тебе.
— Подожди, — просто сказал Илька. — Знаешь, как оно поползло все? Одни в кусты шарахнулись и тихонько скулят там, другие к чеботаревым перекинулись… А революция все равно свое возьмет. И поведут рабочих в бой не те, кто в кустах отсиживаются, не ликвидаторы паршивые, а те, кто ни разу не выпустил из рук красного знамени… — Илька наклонился к моему уху и шепотом спросил: — Ты знаешь, кто такой Ленин?
— Знаю, но плохо, — признался я.
— Вот он и ведет рабочий класс. Придется, брат, взяться за тебя. Ты, я вижу, только и знаешь, чему наслушался в своей чайной-читальне. Ну, я пойду, мне некогда. — Он поднялся, но потом опять опустился и странно дрогнувшим голосом спросил: — А знаешь ты, что Зойке жандарм хотел в тюрьме пальцы на руке отрубить?
— Что ты! — в страхе воскликнул я.
— Ага, не знаешь!.. Зойку в тюрьму доставили без сознания, а пальцы ее все равно сжимали красный флажок. Жандарм тянул, тянул за флажок — пальцы не разжимаются… Он вынул саблю и уже вскинул, чтоб рубануть по пальцам, но тут… один арестованный так его толкнул, что он только к вечеру очухался… Ну, прощай, я пошел. Не надо выходить вместе.
На другой день в канцелярию явился Чеботарев и потребовал выдать ему копию вчерашнего заседания суда. Я сел писать. Злоба душила меня, рука плохо слушалась. А тут еще наш табачный машинист подкладывал жару.
— Сволочи!.. — хрипло выбрасывал он ругательства. — Мерзавцы!.. Негодяи!.. Учинить такую расправу! Дико, гадко, скверно!
Все-таки копию я снял. Мне оставалось написать только слова: «С подлинным верно». Но слово «верно» так соблазнительно рифмовалось со словом «скверно», что я не выдержал и со злорадством написал: «Подлинное скверно».
— Готово! — сказал я.
Севастьян Петрович взял у меня копию, пробежал ее глазами и не спеша понес к секретарю на подпись.
Я раскрыл раму окна, приготовившись прыгнуть прямо на улицу, если бы вдруг Крапушкин бросился ко мне с линейкой (Тимошку он не раз ею угощал). Но, к моему изумлению, Севастьян Петрович вернулся той же неторопливой походкой и положил копию на стол. На копии под словами «Подлинное скверно» стояла еще не высохшая подпись Крапушкина.
Через некоторое время вернулся Чеботарев, сунул копию в портфель, а в кружку опустил три серебряных двугривенника. Это была плата за мою работу по снятию копии. «Ну, нет, — подумал я, — моя совесть чиста: это не Иудины сребреники»…
Собственно, можно уже было встать, распрощаться с моими сослуживцами и уйти, отряхнув прах от своих ног. Но мне так хотелось увидеть, изменится ли выражение лица у нашей мумии, когда она узнает, под чем поставила свою подпись. И я скоро увидел.
Крапушкин распахнул дверь с треском и стал на пороге, дрожа, как в лихорадке. Даже штаны на нем тряслись. Челюсть его отвисла, глаза выпучились прямо на меня.
— Я… я… ттте-бя в тюрь…му бр…брошу!.. — проговорил он, как паралитик.
— Ага! — злорадно воскликнул я. — Значит, вы не из папье-маше?! А в тюрьму мы вместе сядем. Я — за то, что написал: «Подлинное скверно», а вы — за то, что своей подписью засвидетельствовали это.
Чеботарев, выглянувший из-за плеча Крапушкина, выхватил у него из руки мою копию и разорвал на куски.
Тут Арнольд Викентьевич вдруг разразился демоническим хохотом. Хохотал, хохотал да вдруг, размахнувшись, как треснет кулаком по клавишам пишущей машинки.
— К черту!.. — выкрикнул он дико. — К черту!.. К черту!..
Я до сих пор не могу понять, в какой связи со всем этим вскочил облезлый Касьян и, хлопнув ладонью по столу, злобно уставился на Крапушкина:
— А где мои братские, а? Где мои братские, я спрашиваю! Зажилил два рубля семьдесят шесть копеек, чтоб ты подавился ими! Опять я без штиблет!..
Тимошка от восторга взвизгнул и застучал, как в чечетке, ногами.
Только Севастьян Петрович продолжал сидеть в своем старом деревянном кресле и спокойно поглаживал длинную бороду. Неужели он знал, что нес секретарю на подпись? О, милый старик!
Я почтительно поклонился совсем обалдевшему начальнику и навсегда покинул это гнусное учреждение.
Еще месяц назад я послал по надлежащему адресу заявление с просьбой выдать мне свидетельство о политической благонадежности. Без такого свидетельства к экзаменам на звание учителя не допускали. Вернувшись домой после скандала в канцелярии суда, я увидел, что на террасе у нас сидит околоточный надзиратель и листает какие-то бумаги. «Неужто пришел арестовать?» — подумал я, мгновенно связав это посещение со скандалом. Но первый же вопрос, заданный мне полицейским офицером, объяснил, в чем было дело.
— Вы подавали заявление о выдаче свидетельства? — спросил он вежливо.
— Подавал, — ответил я.
— Ну вот, давайте побеседуем. — Он вынул из папки печатный бланк и принялся задавать мне обычные в таких случаях вопросы: имя? отчество? фамилия? сословие? где учился? и прочее. Затем сделал хитроватое лицо и спросил: — К какой партии принадлежите?