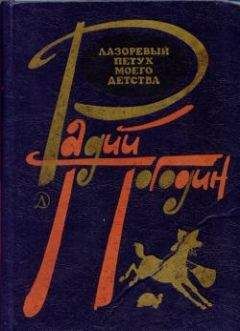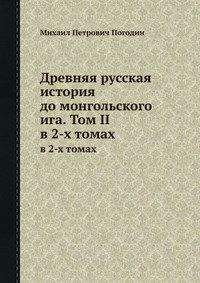«Все при волосах, все офицеры», — подумал Алька, не ожидая от этого обстоятельства ничего утешительного.
— Зовут тебя как? — спросил офицер в халате.
— Алькой зовут.
— Детское имя. Словно камушек в воду бросили…
— Детское по привычке. По паспорту Аллегорий. Полностью.
Соседи развеселились. Лежавший слева квакал и сипел с перерывами на густой затяжной вздох. Сосед в трусах смеялся, как стекла бил. Веселье офицера в халате навело Альку на странную мысль о чае с лимоном.
Алька обиделся:
— И не смешно. Мама думала, что это горное имя. Она малограмотная была, когда я родился.
Сосед в трусах оборвал смех, глаза вытер.
— У меня в роте писарь Тургенев. Мне бы второго писаря: — Аллегория. Кружок изящной словесности. Мир искусства. «Как хороши, как свежи были розы…»
— Я писарем не могу, — слабым голосом возразил Алька. — У меня по русскому тройка и почерк кривой… — Он ожидал — соседи опять засмеются, но они молчали. В тишине этой была разобщенность, наверное, каждый думал о чем-то своем и далеком.
— Я комсомольцем шпану отлавливал, — заговорил наконец сосед слева, большой и рыхлый. Позже Алька узнал, что зовут его Андреем Николаевичем. Гопники, беспризорники — асфальтовые грибы. Отмывать их было одно удовольствие. Приведешь в баню — черти черные. Отмоешь — дитё человеческое. Одного отловили шкета, маленький, злой, как хорек, и такой же вонючий. Ни имени своего, ни фамилии не помнит. Спрашиваем: «Кто ты?» Кричит и слюной брызжет: «Я пролетарий всей земли! Революционер мировой революции. Анархист я! И не кудахтайте, дяденьки начальники». Записали его в документ: имя — Гео, фамилия — Пролетарский, отчество — Феликсович. Подвели под его личность большевистскую философию и печать приложили. Анархист выискался!
Алька перебил рассказчика с хвастливым энтузиазмом, даже руками взмахнул и от прыти такой чуть не упал с койки:
— У меня товарищ есть Гейка. Гео Сухарев. Мы с ним за одной партой сидим…
Андрей Николаевич повернул к нему одутловатое желтое лицо с выпученными глазами.
— В баню тот шкет ни за что не хотел идти. Кусался, мерзавец, точно как хорек. За руки, за ноги сволокли — мы с ними не церемонились. А он оказался шкицей. Гео Феликсовной Пролетарской… Мы ей и сахару, и даже печенья где-то достали. Ревет, называет нас невежами и нахалами. Хорошенькая девчушка из того хорька получилась…
— Цирк! — сказал Алька.
Сосед в сатиновых трусах, капитан Польской, подал ему стакан.
— Рубай компот, Аллегорий, и тихо, бабушка, под подушкой немцы.
Алька выпил компот большими болезненными глотками, вытряс в рот дряблые фрукты, опустил голову на подушку и уставился в потолок. Ветер хлопал снаружи клапаном целлулоидного оконца, задувал в палатку влажный воздух реки, запахи гниющего камыша, рыбацких отбросов, осмоленных недавно лодок. Птицы совсем обнаглели, прыгали по брезентовой крыше и, отталкиваясь, чтобы взлететь, прогибали ее. «Надо же, — думал Алька, — все при волосах, все офицеры». Его голова, стриженная под машинку, лежала на подушке, как изюмина в тесте.
— Сколько же тебе лет? — услышал он вопрос, заданный тихо и как бы со всех сторон.
— Шестнадцать…
Дрема волнами накатывала на него, неслышно накрывала голову, как бы шурша, обдавала тело и опадала в ногах покалывающей пеной. Ощущение ветра, берега, запаха моря и крика чаек над головой было так натурально, что Алька с неудовольствием и великой ленью ответил на тревожный сигнал, зазвеневший в его голове: «Ты что болтаешь-то? Ты подумай-ка, где ты?» «Ну, в полевом госпитале», — ответил Алька и сразу же сел в кровати.
— Восемнадцать! Не верьте мне — мне восемнадцать лет полностью. Шестнадцать я от головокружения брякнул… и от общей слабости сил.
Капитан Польской обхватил свои кирпичные плечи руками, словно озябший.
— Надо же… В шестнадцать лет на вечерние сеансы пускают в кино. В восемнадцать — на фронт… На фронте небось интереснее? — спросил он у Альки. — Чего ж ты молчал? Нужно было сразу кричать, как только глаза разлепились: «Прибыл, товарищи, защищать Родину геройский сопляк Аллегорий!» Фамилия как? — Капитан слез с кровати и навис над Алькой каменным телом. — Ты о чем думал, спрашиваю?
Альке хотелось тишины, хотелось войти в струистую нежную прохладу реки и, запрокинув голову, лежать и плыть на спине по течению, не чувствуя своего веса, и чтобы никакой тяжести на душе, никаких оправданий — только облака в небе, диковинно переменчивые, неслышно задевающие друг друга, сливающиеся, образующие все новые и новые формы, и так без конца.
Соседи разговаривали громко, похоже, перебранивались, двое нападали на капитана Польского, защищая Альку от его нетерпимости. Капитан кипятился:
— Пользы от них на ломаный грош. Они мне — как сор в глазах. Я бы позади войска старух поставил — злых, с розгами.
— Капитан, душа, как бы ты поступил на его месте? — Это спросил сосед в сиреневом халате, позже Алька узнал, что он майор, командир танкового батальона.
— Я детдомовец. А он… У него, может, талант на скрипке играть. Может быть, он поэт, вон у него какой нос острый, как гусиное перо.
Алька засыпал, безразличный к своей дальнейшей судьбе. Сон заботливо отгораживал его от обид сегодняшних и, напротив, предлагал ему, как спасительные лекарства, заботы давние — детские, по нынешнему его разумению, смешные и такие целебные.
Алька видел свой класс, мальчишек, стриженных под полубокс, девчонок с косами — стриженая была только Лялька, полное имя Ленина.
Из окна сильно дуло. Он смастерил вертушки из плотной бумаги, раскрасил их, пришпилил по периметру рамы булавками. Вертушки резво крутились и шелестели. Завуч Лассунский сказал, сбивая вертушки указкой:
— Аллегорий, с твоим умственным развитием это занятие не вступает в противоречие ни в коей мере. Но возраст! Борода еще не тревожит?
— Нет пока.
— Двухпудовку сколько раз выжимаешь?
— Один раз всего… Не выжимаю — толкаю.
— Так и запишем — бездельник.
После уроков его оставили заклеивать окна. Гейка Сухарев остался ему помогать да Иванова Ленина.
С Гейкой Сухаревым они дружно сидели за одной партой с третьего класса. Они все пришли из разных школ в эту новую, остро пахнущую штукатуркой. Воспитателем у них стал Лассунский Исидор Фролович. Позже они узнали, что он учится по вечерам в университете. Еще позже они придумали ему кличку Асмодей, а еще позже он стал у них завучем, но воспитателем так и остался.
А тогда он спросил:
— Ну-с, художники у нас есть?
Алька и Гейка поднялись из-за парты, посмотрели друг на друга с некоторым вызовом и удивлением.
— Гео Сухарев.
— Аллегорий Борисов.
— Ну и ну… Паноптикум…
Они поняли по этому «ну и ну», что отношения с воспитателем обещают быть весьма поучительными.
Лассунский велел им нарисовать дома стенную газету «Бюллетень» к столетней годовщине со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина.
— Александр Сергеевич, — сказал он. — Так просто и так значительно. То-то, Гео и Аллегорий.
Они трудились три дня у Гейки на кухне на полу. Гейкины взрослые сестры перешагивали их небрежно. Небрежно смеялись над ними. Одна из сестер курила.
Кроме названия с завитыми до неузнаваемости буквами, они нарисовали большое «100» с портретом Пушкина-мальчика в одном нуле и Пушкина-взрослого в другом, силуэт памятника Пушкину в Москве, Медный всадник, Черномора, Руслана, кота, дуб, тридцать витязей чередой, их дядьку морского акварельными красками.
Посмотрев газету, Лассунский сказал:
— Ну и ну… «Бюллетень» пишется с двумя «л». Можно было заглянуть в словарь или спросить. Места для текстов вы не оставили — почему?
Они возразили запальчиво:
— Зачем для текстов? Пушкина наизусть нужно знать.
— А если кто-нибудь захочет выразить чувства?
— Пускай вслух выражают.
Лассунский вернул им газету.
— Необходимо думать. Пять минут размышлений, перед тем как начать дело. Пять минут размышлений сэкономят вам дни, может быть, недели… может быть, жизнь. Вперед, мальчишки, вперед — к свету. Кстати, вы умеете размышлять?
Они попробовали.
Слово «бюллетень», хоть и с двумя «л», в этом деле им показалось неправильным. Пушкин не больной инвалид, чтобы ему бюллетень, — он коварно убитый на дуэли великий поэт. Ему памятник! Чтобы как живой.
Они шумно написали: «Наш памятник замечательному великому поэту Пушкину Александру Сергеевичу!» Посередине листа нарисовали памятник Пушкин в окружении пионеров с цветами. Под ногами у Пушкина двуглавый орел царский разбитый. Вокруг постамента декабристы стоят гордые, под каждым фамилия. По краям листа в виде рамки много картинок ярких, но мелких. Места для выражения чувств в письменном виде осталось хоть и немного, но, по их размышлениям, достаточно. Кто писать-то будет: Верка Корзухина, Люсик Златкин, ну еще Молекула лупоглазый.