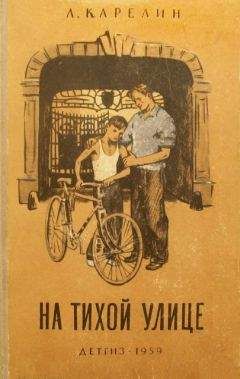А знали Алексея многие. Сперва знали по школе, по работе в школьном комитете комсомола. Учителя любили его за прямой и открытый нрав, за упорство в учебе, за проявившуюся в нем сызмальства тягу к книгам. Ребята дружили с ним, ценя его верность слову, уважая за мальчишеское бесстрашие и ловкость в спортивных играх.
Круг людей, знавших Кузнецова, значительно расширился, когда он стал работать инструктором райкома комсомола. Теперь уже не только школа, где он недавно учился, со всеми ее преподавателями и ребятами, не только тихая улица, на которой он родился и вырос, но и весь район — строители новых зданий и партийные работники, школьники и домашние хозяйки, молодые артисты прославленного на всю страну театра, что находился в районе, и девушки — мастерицы из ателье мод, — всё новые и новые люди знакомились с невысоким юношей с открытым лицом, то мимолетно, а то и всерьез приглядываясь к нему, оценивая его и по словам и по делам.
А потом по путевке райкома Алексей поступил в юридическую школу и, когда окончил ее, был направлен на стажировку в народный суд своего района.
День за днем, год за годом проходила жизнь Кузнецова на глазах у людей.
Но, может быть, именно за эту ясность и простоту его жизни, за то, что проходила она у всех на глазах, и не побоялись люди доверить совсем еще молодому человеку высокое право быть их судьей?
Сам Алексей вряд ли мог ответить на этот не раз возникавший у него вопрос: «Почему избрали меня судьей?»
Раздумывать над этим попросту не хватало времени. Всякое новое дело, которое слушалось в суде под его председательством, требовало от него напряжения всех сил. Работать было трудно. Что ни день — то новые люди, со своими нуждами, горестями, требованиями; что ни дело — то целый мир человеческих отношений, где далеко не все можно сразу распознать, где истина постигается в единоборстве, с часто преступной волей подсудимого, стремящегося обмануть суд, избежать заслуженного наказания.
Судить без ошибок, судить так, чтобы виновный понес наказание, как бы хитер и изворотлив он ни был, а невиновный был оправдан, как бы ни были, на первый взгляд, велики выставленные против него улики, — вот что составляло теперь главную цель жизни Алексея Кузнецова.
— Должен ты накрепко запомнить, Алексей, — сказал как-то Кузнецову Игнатьев, старый, опытный судья, советы которого Алексей принимал с благодарностью: — нет в работе судьи маленьких дел, как нет в работе врача маленьких болезней. От пустячного ушиба может развиться тяжелая болезнь. В пустячном судебном деле иной раз заключено крупное преступление. Вовремя залечил ушиб — вот человек и спасен. Вник в пустячное дело, задумался над ним, разобрался — глядишь, уберег человека, спас его от серьезного преступления.
Эти слова Игнатьева и недавний разговор с прокурором Гурьевой пришли на память Кузнецову, когда он, собираясь идти из дома в клуб, где ему предстояло выступать с беседой о детях, делал последние пометки на разложенных перед ним листках.
— А случай с Колей Быстровым? — вслух спросил себя Алексей. — Не такое ли это маленькое дело, в котором следует серьезно разобраться?..
Неожиданно память принесла далекое воспоминание. Он — мальчишка — стоит у распахнутой двери, а перед глазами замусоренная лестница, краешек синего неба в лестничном окне и дряхлый старик с большой почтовой сумкой на плече.
Это было в войну, в день, когда Алексей узнал о гибели отца.
Обычно по утрам мать первая встречала старика почтальона, и уже от нее узнавал Алексей, есть или нет письма от отца.
Отец писал часто, писал подробно, всеми помыслами оставаясь дома, в мирной жизни, с женой и сыном, с мечтами о мирной своей профессии строителя. О войне же он писал скупо. Алексей, помнится, сердился на отца за эту краткость в описаниях походов и сражений, в которых тот участвовал. Мать же радовалась каждому слову, уводившему ее от мыслей о войне, каждому напоминанию о прошлом, где не было этой неуемной тревоги за мужа, сына, за все, что слагалось для нее тогда в единый образ Родины.
Сын не понимал матери. Он мечтал о подвигах, сетовал на то, что еще мал для службы в армии, завидовал своим на два — три года старше, чем он, товарищам.
В тот день, заслышав на лестнице знакомые шаркающие шаги почтальона, Алексей успел раньше матери выбежать ему навстречу.
«Есть? Нам есть?» — спросил он нетерпеливым шепотом. Он боялся говорить громко, чтобы не разбудить мать.
«Вам?.. — Почтальон остановился и в задумчивости посмотрел на застывшего в ожидании ответа Алексея. — Вот, брат ты мой, какие дела…»
Алексея удивило, что старик тоже говорит шепотом, но он тут же решил, что это неспроста и что письмо есть.
«Давайте!» — протянул он руку. — Ведь есть же! Вижу, что есть!»
«А вот и нет, нету! — внезапно рассердился старик. — Какие такие письма с войны! Там…»
«Что-нибудь случилось, да?..» — услышал Алексей голос матери.
Он обернулся. Он никогда прежде не видел мать такой встревоженной, такой бледной.
«Вот, брат ты мой, товарищ Кузнецова… — тихо и каким-то виноватым голосом сказал старик. — С недоброй вестью я к вам…»
Словно кто открыл сейчас перед Алексеем давным-давно читанную им книгу и заставил прочесть ее заново — повзрослевшими глазами, когда знакомое становится новым, а не примеченное раньше слово зажигает сердце. Так заново увидел он себя мальчишкой и первым на улице озорником и задирой. Так заново пережил он свое горе из-за того, что не был взят в армию, когда, узнав о гибели отца, кинулся в военкомат.
Одна за другой вставали в его памяти картины прошлого: трудная жизнь на небольшое жалованье матери, свои попытки что-нибудь заработать, чтобы помочь ей, частые споры из-за того, кончать ли ему десятилетку или поступать на работу. Мать хотела, чтобы Алексей кончил школу, институт, хотя и нелегко ей было одной растить сына.
Вспомнив все это, взглянув на прошлое повзрослевшими глазами, Алексей проникся глубоким уважением к матери. Он понял ее. Понял, ощутил ее горе, увидел такой, какой она была тогда, — еще молодой, красивой, мужественно встретившей свою тяжкую утрату.
Увидел он и себя, точно всю жизнь перелистал, машинально сжимая в руках вот эти свернутые в трубочку листочки, по которым собирался выступить сегодня в клубе. Догадался: с того самого дня, когда узнал о гибели отца, кончилось его детство.
Задумавшись, Алексей вышел из комнаты в коридор.
— Куда это ты? — встретила его мать. — Неужто в клуб? Ведь рано еще.
— Пройдусь немного, — сказал Алексей. — Все в голове перепуталось, не знаю, что и говорить стану. — Он показал матери свернутые в трубочку листки: — Вон сколько понаписал!
— Ох, Алексей, — озабоченно сказала мать, — шутка ли — такая беседа! О детях… Да ведь ты и сам еще дитя…
— Это только для тебя, мама, — улыбнулся Алексей. — А для других я, пожалуй, из детского возраста вышел.
— Велик, велик, чего там! — насмешливо сказала мать. — А все же, о чем говорить будешь? Не худо бы тебе наперед с матерью обсудить. Ты судья, а я, как-никак, учительница. Дети — это уж по моей части.
— А по моей? — спросил сын.
— Ты судья… — с сомнением в голосе повторила мать. — Ну ладно, иди. Мы с Евгенией Викторовной уговорились прийти тебя послушать. Из нашей школы и директор будет и еще кое-кто из учителей.
— Ничего, пусть приходят, — недовольно сказал Алексей. — А вот ты-то зачем? Я не артист и не в театре выступаю, чтобы ходить смотреть на меня.
— Был бы артистом, так, может, и не пошла бы, — сухо заметила мать. — Приду, не отговаривай.
— Тебя отговоришь! — усмехнулся Алексей. — И в кого это у тебя, мама, такой характер строгий?
— Да уж не в сына, — рассмеялась мать. — А вот ты в кого уродился такой самоуверенный, что с матерью и посоветоваться не желаешь? Ну-ка, ответь! — Ласково подтолкнув сына к дверям, она отвернулась, чтобы Алексей не заметил проступивших у нее на глазах слез.
— Мама, — останавливаясь в дверях, сказал внезапно дрогнувшим голосом Алексей, — спасибо тебе за всё…
Мать быстро оглянулась, удивленная, тронутая, но сына уже не было в комнате.
В клуб идти было еще рано, и Алексей решил побродить по арбатским переулкам, которые так хитро переплелись между собой, что, взятые вместе, образовали как бы городской лабиринт, давно, впрочем, изученный и распутанный Алексеем. Ему всегда было интересно бродить по этим живописным улочкам и переулочкам, где московская старина жила даже в их названиях: Плотников, Скатертный, Хлебный, где чуть ли не каждый дом был по-своему знаменит, имел свою историю.
Алексей и не заметил, как вышел к набережной. Знакомая путаная тропа переулков сама вела его за собой.
Вступив на широкое полотно Бородинского моста, Алексей в изумлении остановился. Мост невозможно было узнать — так раздался он в ширину. Раздалась и улица, исчезли ветхие домишки на набережной.