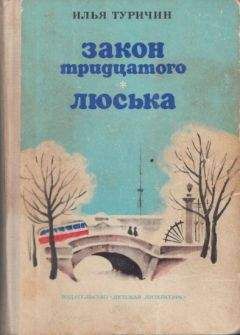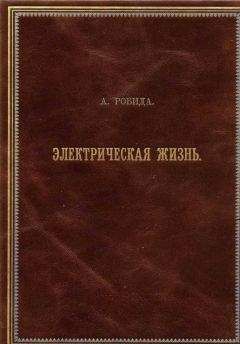Да что ж это! Хоть бы Алеша был дома. От отца она не посмеет прятаться! От отца она не закроется! Елена Владимировна с обидой посмотрела на запертый ящик, будто в нем спряталась от нее сама Оленька.
Что ж делать?
Елена Владимировна стала перебирать мысленно знакомых, с кем бы можно было посоветоваться. И ни на ком не могла остановиться. Она уже пришла было в отчаяние, но неожиданно вспомнила о старом учителе Александре Афанасьевиче. Он на пенсии. Он много работал с детьми. Оленька у него училась. Оленька считает его скучным, но какое это имеет значение? У него — многолетний опыт. Он поймет, поможет.
Плюха поджимал губы, точь-в-точь как учительница по математике Василиса Романовна. Лицо у него при этом становилось еще более одутловатым, а нижняя губа почти совсем скрывалась под верхней.
Виктор изредка поглядывал на него, слушая объяснения математички, и аккуратно списывал с доски решение задачи.
Плюха тоже писал. Виктор видел, как он поставил скобки не там, где надо, хотел подтолкнуть его локтем, но сдержался. Вообще с Плюхой что-то творится. Никогда у него не было такого неприступного вида, никогда он не поджимал губ.
— Как тетино здоровье? — спросил Плюха Виктора на перемене.
— Спасибо, получше.
— Эх ты, — вздохнул Плюха. — Я тебя в кино видел… С тетей…
Виктор закусил губу:
— Ладно, Плюха… Ну, был в кино. Ведь не маленькие ж мы!
— Конечно. Только зря ты тетю приплел. Сказал бы, и все. А то: «тетя больна», «вирусный грипп», — Плюха повернулся и пошел по коридору, нелепо размахивая руками.
Виктор хотел окликнуть его, вернуть, но тут подошла Лена Колесникова.
— Шагалов, сегодня будем разбирать твое поведение на комитете. В связи с Иваном Ивановичем.
— Есть указание? — спросил Виктор с усмешкой.
— При чем тут указание? — нахмурилась Лена. — После шестого урока приходи в кабинет директора.
— А не приду?
— Ты с ума сошел! — Лена сделала большие глаза.
Виктор сморщился:
— Ладно. Приду.
Лена кивнула и заспешила по коридору с деловым видом, широко шагая длинными ногами.
У Виктора испортилось настроение. Не столько оттого, что будут его «прорабатывать» за шутку с Иваном Ивановичем, сколько из-за необходимости остаться после шестого урока. Оленька пойдет одна, и он не сможет проводить ее. Последние дни после уроков получалось так, что они выходили из дверей школы порознь, а сразу за садовой калиткой оказывались вместе. И шли домой более длинным путем, петляя по переулкам. Ни Виктор, ни Оленька не признались бы, что ищут встречи. Не сговариваясь, шестым чувством, по полувзглядам, полужестам, угадывали они ту единственную минуту, когда надо надеть паль то и выходить на улицу, чтобы непременно встретиться.
Черт бы побрал комитет! Вот взять да и не пойти!. Пусть «прорабатывают» сами себя, друг друга…
Виктор вконец расстроился. Подошел к окну, стал следить, как крупные капли недружно ударяют по ржавому карнизу.
Оленька гуляла по коридору с подругами, видела Виктора, стоявшего у окна с окаменевшим лицом, угадала: что-то произошло. Но подойти постеснялась. Прошла мимо не глядя, слушая и не слыша, о чем судачат подруги.
Заметил Виктора и вернувшийся Плюха. Подумал, что Виктор расстроился из-за него. Поджал губы: хорошо, хоть расстроился. Захотелось подойти к другу, сказать что-нибудь такое… Ну, что соревнования наконец могут состояться, каток подмерз.
Он бы подошел, если бы не подкатился к нему толстый Володька Коротков. Кивнул на Виктора:
— Видал? Посмурнел. Песочить будут. На комитете.
— За что?
— За Ивана Ивановича, — усмехнулся Володька.
Противно-резко зазвенел звонок. Он звенел двояко: резко на урок и весело — на переменку.
— Трепло ты, Володька, — сказал Плюха сердито и направился в класс.
— Здрасте. Я ему — последние известия, а он мне — трепло.
— Трепло. Сарафанное радио.
Плюха сел на свое место. Виктора еще не было. Он вошел в класс вместе с Иваном Васильевичем. И Плюха так и не успел выяснить, верно ли, что Виктора будут песочить, или Володька натрепался.
Одним ухом слушая объяснения Ивана Васильевича, Плюха достал из портфеля тетрадь, раскрыл ее, написал на чистой странице:
«Верно, что тебя будут песочить на комитете?»
Подтолкнул Виктора в бок. Тот прочел, пожал в ответ плечами.
Плюха приписал:
«Будут или треп?»
— Будут, — недовольно буркнул Виктор. И тут же ему пришла в голову идея. Он пододвинул к себе тетрадку, вырвал из нее листок, написал на нем:
«Всем! Всем! Всем!
Сегодня раба божьего Витьку сына Шагалова будут после уроков сечь публично на комитете за безгрешного Ивана Ивановича. Вечная Витьке память. Аминь».
И отдал листок впереди сидящему. Листок тихонько шуршал, переходя из рук в руки. Попал наконец к Оленьке. Виктор украдкой следил за ней. Вот Оленька прочла, обернулась, взгляды их встретились.
«Ты хочешь, чтобы я задержалась?»
«Да».
Вскоре записка, пропутешествовав по классу, вернулась к Виктору. На ней была надпись, сделанная круглым почерком Володьки Короткова: «И разверзнется хлябь небесная. И грянет гром».
Было по-утреннему сумрачно. Вчерашняя оттепель превратилась в гололед. Дул ветер, раскачивал лампы на фонарных столбах. И когда возле завода сменят древние жестяные колпаки? Свет метался по черной земле. Было зябко и тоскливо.
Люся ходила по скользкому тротуару туда и обратно, придерживала обеими руками поднятый воротник пальто, чтоб не задувало. Ей сегодня во вторую смену, днем, а надо, непременно надо поговорить с Костей. Пока не поздно. Пусть себе сердится, что пришла.
Костя появился из-за угла не один, с товарищами. Издали увидел зябко ежущуюся фигурку. Нахмурился. Люся поняла, что он заметил ее, и затопталась нетерпеливо на месте.
— Идите, ребята, я догоню, — сказал Костя, махнул товарищам рукой, перешел улицу наискосок, мимо Люси, и застучал ботинками по гулкому тротуару. Люся пошла следом.
Хорошо, хоть не лезет при всех. Соображения хватает. Костя повернул в поперечную улицу и замедлил шаги. Люся догнала его, пошла рядом.
Костя покосился на нее, усмехнулся:
— Люся! Вот так встреча!
— Ты думаешь, мне радостно на ветру маячить? Промерзла вся.
— А я просил?
— Мало ли. Погреться бы где.
— Денег нет.
— У меня есть немного. Рубля три.
— С такими деньгами только на прием к турецкому султану.
— Ладно тебе… Хоть чаю попьем.
— Хоть молока, — огрызнулся Костя. — Практика у меня, понимаешь?.. Некогда чаи распивать.
Она посмотрела на него странно. Глаза наполнились слезами. В них плавали испуг и мольба и еще что-то, от чего она казалась совсем беспомощной, как слепой щенок. Косте стало жаль ее.
— Ну, пойдем, горе луковое, — пробормотал он.
Неподалеку была закусочная-автомат. Они направились туда. Люся подошла к кассе, но Костя мягко отстранил ее.
— Такая сумма и у меня найдется.
Он купил жетоны. Принес к столику два стакана кофе, бутерброды с сыром и эклер. Люся любила эклер.
Кофе был невкусным, бутерброды сухими. Люся пила молча. Костя морщился.
— Пойло. Ну, что скажешь? Соскучилась со вчерашнего дня?
Люся глянула на него искоса. Опустила глаза. Длинные подкрашенные ресницы дрогнули.
— Поговорить надо.
— Говори.
— Народу много.
— Тайны мадридского двора?
— Народу много, — повторила Люся.
— Уйдем в катакомбы, — сказал Костя, улыбаясь.
— Все шуткуешь, — вздохнула Люся, и снова дрогнули ее ресницы.
— Допивай да пойдем. Ведь практика же. И еще мне надо в форме быть. Может, вечером соревнования. Знатно подморозило.
Люся молча допила кофе и встала.
— А пирожное? — удивился Костя.
И снова она посмотрела на него странно, передернула плечами:
— Сам ешь!
Костя хмыкнул:
— Ну ладно. — Он взял с тарелочки эклер. — Давай пополам.
Люся отвернулась, пошла к двери. Он двинулся следом, жуя на ходу пирожное.
Они прошли немного по улице, свернули в маленький голый сквер. Сели на деревянную скамейку. Невдалеке двое малышей под наблюдением закутанной в платок старушки безуспешно пытались вскопать лопатками смерзшуюся кучу песка.
Костя повернулся к ней всем корпусом:
— Ну?
Люся съежилась, прихватила руками воротник.
— Попалась я.
— Куда? В милицию?
— Поди-ка ты!.. — Люся зябко повела плечами. — Попалась. Как бабы попадаются.
Костя отодвинулся:
— Ну да?..
Люся смотрела на него не мигая.
— Этого еще не хватало, — сказал Костя. Он растерялся от неожиданности и до конца не мог еще понять, что произошло.
— Надо было раньше думать, — сказала Люся не то укоризненно, не то с сожалением. — Мутит, спасу нет.