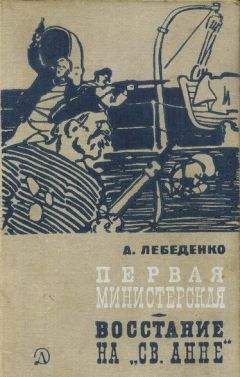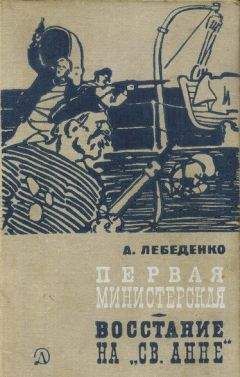Было приятно спать на пружинной постели с прохладным, крепко наглаженным бельем. Утром в комнату приносили парное молоко и еще горячие сдобные булочки с тающим сливочным маслом, сочную, упругую ветчину, которую нужно было жевать, чтобы рот наполнился вкусным питательным соком. За обедом Миша пробовал незнакомые до сих пор острые пряности, вечером пил чай с клубничным вареньем и крыжовником. В свободные часы можно было резвиться по бесконечным дорожкам сада, который спускался к озеру, заросшему желтыми кувшинками, водяными лилиями и кивающим по ветру камышом.
Но зато часы занятий были подобны пытке. Козявка ни на минуту не мог сосредоточиться на каком-нибудь предмете. Он часами оставался неподвижным, с тяжелым и тупым взглядом. Но как только на ум ему взбредала какая-нибудь шалость или злая проделка, его хитрые свиные глазки начинали оживленно бегать по сторонам, и он упрямо, без конца повторял понравившуюся ему остроту или шутку.
— Коля, ты только раз постарайся понять значение этой формулы, — твердил Миша. — Понимаешь. Только раз! Тогда все станет понятным. Одно усилие — и полный успех. Ну, слушай, следи за мной. Икс квадрат плюс икс игрек, плюс два икс игрек, плюс…
— Со свя-ты-ми у-по-ко-ооо… — заводил вдруг Коля басом, а затем высоким, воющим голосом прямо на ухо Мише вопил: —… о-о-ой душу раба твоего!
Карандаш падал из рук Миши.
— Коля, ну я прошу тебя, еще десять минут!
— Я прошу вас, я рощу вас, я ошу вас, я шу вас, я у вас, квас, Тарас, тарантас! — начинал быстро балагурить Козявка, сохраняя при этом спокойное, каменное лицо.
— Так заниматься нельзя! — вспыхивал Миша, но сейчас же, взяв себя в руки, откидывался на спинку стула и как будто бы равнодушно говорил: — Ну хорошо, я подожду, пока ты кончишь болтать.
— А ты мне объясни, почему гимн-азия, а не гимн-африка? Почему сто-рож, а не девяносто девять физиономий? Почему город-о-вой, а не деревня-у-крик?
Миша молчал, отвернувшись в сторону. Затем цедил сквозь зубы:
— Старо и неостроумно…
— А ты не злись. Лучше отгадай загадку. Четыре ноги, сверху перья, хорошо летает. Не знаешь? Ну, я тебе скажу: две вороны. А вот еще: четыре ноги, сверху перья, совсем не летает. Тоже не знаешь? Письменный стол.
Миша не выдерживает и смеется. Козявка торжествует.
— Давай лучше анекдоты рассказывать, это смешнее, чем алгебра.
— Коля! Я готов слушать анекдоты, сколько хочешь, но только после занятий. Я деньги получаю за занятия с тобой.
— Что ты говоришь? Деньги?! Ну, давай твои иксы, игреки, — с тоской тянул к себе ненавистную тетрадку Козявка.
Но на третьей минуте он откровенно зевал во всю ширину своей пасти и изрекал:
— Мишка, а ты девочек целовать любишь?
— На такие темы я отказываюсь р-разговаривать, — заикался Миша, краснея до ушей. — Раз навсегда прошу тебя оставить эти темы.
— Ну, давай на другие темы. Ты кота за хвост когда-нибудь тянул?
Миша смеется.
— Дурак ты, Козявка. Ты меня прости. Почему ты не можешь быть серьезным полчаса? Неужели тебе неинтересно учиться? Что же ты будешь делать неученым?
— Подумаешь, забота! Получу наследство, буду жить полгода в имении, полгода в Петербурге и полгода на Ривьере. Вот тебе и круглый год.
— Да уж, действительно круглый!
Впрочем, Миша ожидал еще худшего. Он боялся, что Козявка по своей привычке применять силу где нужно и не нужно будет истязать его, как он истязал Молекулу и других, уступающих ему в силе товарищей.
Иногда на занятиях присутствовала мать Козявки. Она влюбленными глазами смотрела на сына и, когда он начинал шалить, укоризненно качала высокой, тщательно сделанной прической. Но по лицу ее можно было догадаться, что она думает:
«Ах, какой шалун, какой шалун у меня сын! Такой большой, но ведет себя, как маленький. Но он такой веселый, такой остроумный!»
А о Мише она думала:
«Положительно умный мальчик. Как он удачно держит себя с Колей. Ласков и вместе с тем так настойчив. Сын портного, но не лишен такта. Жаль только, что еврей!..»
Девятого мая, в день именин Коли, в имение съехались гости. Чистый двор наполнился колясками, экипажами, бегунками, линейками. Лошади не поместились в конюшнях и стояли у привязи под открытым небом. Из города привезли лакеев, из деревни пришли девушки ощипывать птицу, мыть посуду, крутить мороженое.
Раскрылись помещичьи шкафы, хрусталь застывшими струями горной реки, тысячами огней засверкал на белых скатертях. Матовые серебряные ведра слезились ледяной росой. Из-под салфеток глядели тупые золоченые головки толстостенных бутылок Мумма и Редерера.
Гости рассыпались по саду. Молодежь пустилась на рассохшемся низкобортном баркасе по озеру, и девушки, рискованно наклоняясь за борт, старались поймать на ходу стебель водяной лилии с еще не распустившимся желтым бутоном.
Мужчины дымили сигарами на веранде и в кабинете хозяина.
Мишу уговорили остаться на ночь.
— Завтра не надо ехать в гимназию, — уговаривала хозяйка. — Будет прекрасный ужин. Будет очень весело, будут петь и играть.
Посланная за гимназистами еще утром линейка вернулась к вечеру нагруженной до отказа. Мальчишки немедленно помчались к воде. Салтан, Андрей и Ливанов предложили себя катающимся на баркасе в качестве гребцов. Салтан подмигнул Андрею, и гребцы стали так раскачивать баркас, что девушки и взрослые гости предпочли покинуть столь шаткую почву.
Завладев баркасом полностью, Андрей и Салтан крикнули клич, и баркас наполнился гимназистами в мундирчиках.
Опять скользил баркас по быстро темнеющей глади озера. Гимназисты брызгались, насильно высаживали менее расторопных товарищей на заболоченный пустынный берег озера. Невольные Робинзоны сперва неистовствовали, затем пытались найти обходную тропу, но, замочив начищенные для вечера ботинки, возвращались назад и терпеливо ждали, когда, наконец, сжалятся над ними шалуны товарищи и вновь перевезут в сад.
Над прибрежными ивами поднялся остророгий месяц, гимназисты угомонились и с песнями поплыли по заросшему водорослями озеру.
Андрей, славившийся искусством кормчего, сидел на руле. Подобрав полы мундирчика, он медленно мешал веслом тяжелую, темную воду. Два гребца лениво опускали и поднимали блестевшие на луне весла.
Пели негромко, но стройно, как поют только на Украине: голоса сходились, расходились, перекликались между собою и опять сливались в одну слаженную, поднимающую и волнующую струю:
Тыхо, тыхо Дунай воду несе,
А ще и тыше дивка косу чеше…
Чеше, чеше та и на Дунай несе! —
звонким серебром выводил семиклассник Бабенко, великовозрастный болван, обладатель прекрасного тенора.
Миша Гайсинский сидел на носу и, наклонившись над водой, следил за серебристыми разводами небольшой гладкой волны, которая вырастала на поверхности от движения баркаса.
Вечер еще ниже склонил к воде тени густых ив, высоких тополей и небольшой водяной мельницы у запруды.
— Ребята-а-а! — загудел над озером чей-то могучий бас. — Ужин-а-ать! Опоздавшие оста-а-нутся без мороженого-о-о!
— Андрюшка, правь к берегу, — завопили мальчишки. — Серьезная опасность!
Козявка и Ливанов, сидевшие на веслах, приналегли, и баркас двинулся к пристани. Очищая на ходу брюки и сапоги от приставшего песка, громыхая ступеньками деревянной лестницы, повалили гимназисты на веранду.
Миша Гайсинский остановился у крыльца, не зная, идти ли ему за стол или скрыться в свою комнату. На веранде и в гостиной шумно двигали стульями. Не затихали оживленные голоса мужчин и женщин. Хозяйка сама рассаживала гостей, стараясь угодить всем.
Окна в сад и на веранду были раскрыты во всех комнатах. В зале кто-то бойко бренчал на рояле, а в угловой комнате из граммофонной трубы лился бодрый, бравурный марш какого-то гвардейского полка.
— Мальчики! Ваше место на веранде. Вам тут будет свободнее, — командовала хозяйка. — Все уже пришли? В саду никого не осталось? — Она облокотилась на перила крыльца. — Миша, а вы что же стоите? Идите сюда. — Она сошла вниз, взяла Мишу за руку и усадила за стол.
Столы уже были уставлены закусками, фруктами, графинами и цветочными горшками. Лакеи, наклоняясь к уху гостей, угодливо шептали названия вин.
— Мне безразлично, я, собственно, не пью… — нерешительно сказал Миша, но лакей наливал ему в бокалы белое, а затем и красное вино. Миша выпил и то и другое, и в голове начался легкий шум. Огни заколыхались в тумане, и лица соседей показались приветливыми и ласковыми. За стеклянной стеной веранды шумно ужинали взрослые. Все двери и окна были настежь. Но гимназисты кричали так дружно и громко, что нельзя было разобрать, о чем говорят в столовой.
Миша сидел лицом к взрослым. Посредине самого большого стола, в туго накрахмаленной рубашке, сидел Савицкий. Он то и дело брал у лакея бутылку или графин со стола и сам подливал вино двум важным дамам-соседкам. Рядом с ними сидел директор гимназии с широкой орденской лентой через плечо. Здесь была вся городская аристократия. Молодежь сидела за маленькими столиками, которые были расставлены по углам большой комнаты и отделены друг от друга и от большого стола зеленью пальм и фикусов в крашеных деревянных бочонках. Мише казалось сейчас, что здесь собрались очень хорошие люди. Они так приветливо улыбаются, так дружелюбно наклоняются друг к другу, так охотно наливают вино, подают блюда, тарелки и судки с соусами и закусками, так скромно извиняются, если в тесноте кто-нибудь заденет соседа.