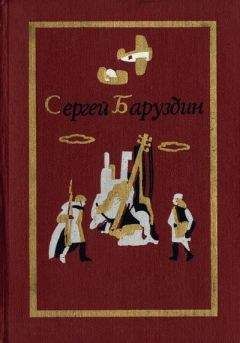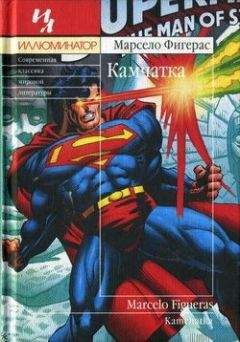В кабинет вошла женщина — молодая, сухонькая, немного сутуловатая, с острым лицом. Она с любопытством взглянула на меня.
— Вот как раз Лидия Викторовна, — объяснил директор, — а это…
— Да, да, знаю, мне уже сказали, — перебила ее Лидия Викторовна и довольно подробно повторила мне то, что я уже слышал от Антонины Ивановны. — И вообще, — добавила она, — ваша Надя стала в последнее время довольно замкнутой. Я убеждена, здесь сказывается влияние этого лоботряса Игоря. Он старше всех в классе и хочет казаться умником. Он, видите ли, даже знал, что сегодня встречают какую-то делегацию! А у них с вашей Надей какие-то, я бы сказала, странные взаимоотношения… И вот…
— Ну что вы! — Антонина Ивановна встала из-за стола. — Не надо преувеличивать, Лидия Викторовна. И потом, говоря объективно, Игорь…
— Не убеждайте меня! Не убеждайте! — упрямо повторила учительница. — Вы считаете Игоря способным, а для меня он переросток, дурно влияющий на весь класс, в том числе и на старосту. Нечего тут скрывать…
Я совсем опешил.
— И уж если говорить начистоту, — продолжала Лидия Викторовна, — то я не понимаю, какая может быть дружба, говоря языком Антонины Ивановны, у пятнадцатилетней девочки и семнадцатилетнего верзилы.
— Папочка! Ну как же ты не понимаешь! — говорила мне дома Надюшка. — Ну неправа же она, Лидия Викторовна, неправа! Он совсем не про нее «дура» написал, а она пристала, отняла силой тетрадку и выгнала его из класса. А потом он пришел, извинился и говорит, что слово это совсем не в адрес ее, Лидии Викторовны. А она ему в ответ: мол, слово «дура» женского рода, а не мужского, и потому она прекрасно понимает, к кому оно относится. А он ей говорит: «Разве только вы в классе женщина, чтобы на себя это принимать?» А Лидия Викторовна опять: «Конечно. А кто же здесь еще женщина?» Глупо! Как будто девочек в классе не было. Ну тут он, конечно, неправильно поступил. Сел за парту и говорит: «Вот действительно дура!» А она услышала и закричала: «Вон из класса! Лишаю тебя до конца года права посещения моих уроков!» Только он не нарочно так сказал! Честное слово! Нечаянно у него сорвалось! Он сам объяснял нам потом, что и не хотел совсем так говорить. А когда урок кончился, как-то так получилось, что все решили больше не ходить на историю. Потому что неправа она, Лидия Викторовна! Правда, мы говорили с Люсей — она председатель нашего отряда, — что, может, не надо так. А мальчишки говорят: «Мы вас презирать будем, если останетесь!» Ну как же мы могли! Неужели ты не понимаешь? И потом же мы не просто гулять пошли… Мы в Шереметьево…
— Какие же мальчишки?
— Ну какие. Всякие…
— А все же, кто именно?
— Игорь, например, — произнесла Надюшка и опять добавила: — Ну не могла я иначе! Правда, не могла!
— Это тот самый Игорь, который учительницу… дурой обозвал?
— Да… то есть нет, — поправилась Надюшка. — Он же не про нее написал, я говорила тебе. Это потом он сказал…
— Он второгодник?
— Почему второгодник? Просто он старше нас на два года. Он в детстве болел полиомиелитом. И два года пропустил. У него и сейчас еще рука плохо двигается…
— Ну, а ты? Как ты относишься к нему?
— Как? Никак! Мы просто дружим. Он, честное слово, хороший. Только откровенный слишком. Прямо все говорит, как есть. Если хочешь знать, даже когда Сталина стали критиковать в газетах, он прямо учительницу спросил, а она говорит: «Не знаю». А он: «Вы же газеты читаете? Что вы думаете о культе?» А она ему: «Эта тема не для вас!» Вот с тех пор она и придирается к нему. И он ее не очень любит… А вообще-то ты не волнуйся…
— Я и не волнуюсь.
— Нет, я почему говорю… — продолжала Надюшка. — По истории мы нового ничего не проходим. Так, повторение пройденного…
— И что же вы сейчас повторяете из пройденного?
— По истории? Отечественную войну сорок первого — сорок пятого годов.
— И как?
— Что — как? — не поняла Надюшка. — Что — как? — повторила она почти испуганно. Видимо, все случившееся всерьез озадачило и взволновало ее.
— Как она, Лидия Викторовна, объясняет вам то самое пройденное? Хоть интересно, например, тебе?
— Н-нет! — призналась Надюшка. — Как в учебнике… Это мы и сами можем прочитать… Ты только… Папочка! Не говори, пожалуйста, маме! Да?
— Ладно, не скажу, — пообещал я. — А насчет повторения пройденного…
Это был дом в тихом московском переулке. Очень шумный, беспокойный дом в очень тихом переулке у Кировских ворот. Не знаю, может быть, и верно, что когда-то, давным-давно, до революции, он принадлежал какому-то знаменитому московскому купцу, торговавшему чаем. Это нас не волновало. Мы знали другое: вот уже почти четыре года этот дом был заветной несбыточной мечтой московских мальчишек и девчонок. Несбыточной потому, что он был единственный в Москве, и даже, может быть, во всей стране. И попасть в него было труднее трудного.
А мы попали. И мы ходили сюда, как в свой дом. Мы были горды и счастливы необыкновенно…
— Мальчик, а мальчик! Подожди!
Я остановился. В коридоре ко мне подбежала девчонка, ниже меня ростом, без пионерского галстука. Я еще удивился: «Почему без галстука?» В Дом пионеров все приходили с галстуками, если не считать взрослых и самых старших ребят.
— Это твои стихи в «Пионерке» вчера напечатаны?
— Да, а что?
И в самом деле — что? Вчера стихи в «Пионерке» — верно. И на той пятидневке были стихи. И в прошлом году. И в позапрошлом. Я уже три года печатаюсь. На то и деткор!
— Нет, мне просто сказали. Хорошие стихи. Только — не сердись! — там рифма одна плохая, по-моему: «тогда» и «вождя». Я сразу заметила и вот хотела…
Так все началось. А может, чуть позже, когда мы случайно вышли из Дома пионеров вместе. Она спросила, где я живу, и я соврал на всякий случай, что далеко, хотя жил совсем рядом. Мы больше часа шагали по Москве. Шли в сторону ее дома. И потом я еще раз соврал, когда сказал, что учусь не в шестом, а в восьмом классе. Хорошо, что она не спросила, сколько мне лет. Я бы не мог ей признаться, что мне тринадцать. Правда, только до лета. Летом будет четырнадцать.
В общем, что говорить: возраст трагически подводил меня. Школа — ладно! Но и в Доме пионеров, в литературной студии, которая состояла из трех кружков — младшего, среднего и старшего, — мне была уготована честь находиться в младшем…
Все это было весной. И ей исполнилось уже (уже!) шестнадцать лет. А осенью ей будет семнадцать. Она училась в девятом классе. И, может быть, поэтому она еще больше мне нравилась.
В Доме пионеров было интереснее, чем в школе. В школе я учился, и даже, кажется, сносно. В этом году, например, за первые две четверти ни одной посредственной отметки, если не считать алгебры. Но школа — это школа. Я бы охотно променял свой шестой класс на седьмую комнату Дома пионеров.
Настоящие друзья были там. И туда всегда хотелось идти. У нас бывали когда-то Крупская и Чкалов, а потом папанинцы и Маршак, Чуковский, генерал Карбышев и авиаконструктор Микулин, Гайдар, Кассиль и Михалков. А наши руководители Рувим Исаевич, Вера Ивановна и Вера Васильевна — разве их сравнишь с обычными учителями!
С некоторых пор меня еще больше тянуло туда. И не только в седьмую комнату, где была наша литературная студия. Я приходил почти за час до начала занятий. И уходил позже всех: вдруг увижу? Приходил и тогда, когда занятий вовсе не было: а вдруг она там.
Она занималась в изостудии. Дни занятий у нас не всегда совпадали.
— Ты что какой-то? Пошли домой? — спрашивали меня приятели. Впрочем, даже не просто приятели, а друзья по литературной студии — Сема, Леня, Коля, Юра и Лида, в которую я был тайно влюблен.
— Почему ты по ночам не спишь? — недоумевала мать. — Опять всю ночь вертелся.
— Ну признавайся, не влюбился ли? — полушутя, полусерьезно говорил отец.
— Нет, — отвечал я, — и чего вы пристали!
Я сам не узнавал себя. Я грубил родителям и замыкался перед товарищами. А в разговорах с ней переходил вдруг на такой разухабистый тон, что однажды она удивилась:
— Что с тобой? Не надо так, прошу. Мне это не нравится…
— Ты какой-то рассеянный стал. Потерял что-нибудь? — интересовалась на занятиях Вера Ивановна.
— Нет, нет, ничего…
И верно. Я не потерял, а нашел. Но я не мог признаться в этом никому.
— Почему ты сегодня опять не читаешь нового? — Вера Ивановна смущалась.
Раньше я был, кажется, самым активным кружковцем. А я не писал теперь того, что писал раньше. Не писал о боях на озере Хасан и о событиях в Испании. Не писал о происках шпионов и о боевых делах пограничников. Не писал о вождях и о гражданской войне. И о войне в Абиссинии не писал, хотя прежде Абиссиния почему-то очень привлекала меня. Не писал о животных и о природе, что раньше мне, как говорили, особенно удавалось. Не только не писал, но и стеснялся признаться кому-нибудь, что дома у меня есть живая черепаха, три ящерицы, ежик и белые мыши. Не писал о Москве и о зарубежных детях, стонущих под игом капитала…