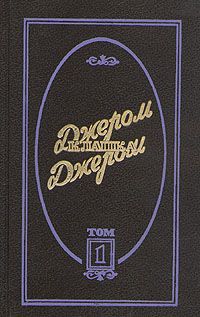— Чей это?
— Мой тренировочный велосипед, — прозвучал ясный, уверенный голос Зины. — Разве ты не знал, что я гонщица?
— Нет…
— Ну как же! — сказала Тоня. — Зина заняла третье место по Москве… Хочешь покататься?
— А можно? — Я исподлобья взглянул на Зину. Зина улыбнулась своей долгой улыбкой, крепко и ласково взяла меня за плечо и подтолкнула к велосипеду. Впервые оказался я так близок к чудесной машине. Вот она вся передо мной, словно вычерченная на белой стене изящными, тонкими линиями: жесткий треугольник рамы, крутой изгиб передней вилки, совершеннейшие круги колес, руль, изогнутый, как рога горного барана.
Я тронул рукой маленькое кожаное седло, похожее на сердце, оно ответило нажиму пальцев упругим вздрогом, биением в один толчок. Я бы никогда не осмелился сесть на это седло, но Зина что-то сделала с ним, и седло оказалось у нее в руке, а на его место она положила подушку.
— Полезай! — приказала она.
Я вскарабкался на подушку, и мои ноги уперлись в педали, а руки плотно охватили резиновые наконечники руля. Тело сладко и ожидаемо, словно я не раз ездил на велосипеде, изогнулось, взгорбилась спина, подобрался живот, вытянулась шея.
— Ну же! Давай! — крикнула Зина.
Только одно маленькое усилие понадобилось мне, а затем уже не я крутил педали, они сами принуждали мои ноги двигаться быстрей и быстрей. Все утончался и утончался тоненький звон вертящихся колес и, отделившись от них, провис рядом, будто легкая звуковая тень.
— Что же ты не сигналишь?
Правда, как же я опрометчив! В центре города, в гуще машин, трамваев, пролеток, телег, прохожих, я безудержно мчусь напролом. Отчаянно и нежно зазвенел звонок под моим указательным пальцем. Как хорошо я звоню, как хорошо езжу! Вмиг расчистилась улица, лишь одно мое отражение пулеметно мелькает в витринах, под вывесками и золотыми калачами; я мчусь сквозь булки, сайки, пряники, баранки, сквозь сыры, колбасы, консервы, сквозь рулоны материи, груды шелка и ситца, я пронизаю надменные манекены и все, чем хвалятся магазины, будь то из шерсти, из дерева, жести, стали…
Но отчего меня так подкинуло на седле, что это вылетело из-под колеса? Камень, птица? Нет, еловая шишка: город давно позади, я мчусь лесной тропинкой по узловатым корням елей, и, чуть задевая мое лицо, отмахивают вправо и влево пудовые темные ветви. А впереди ветряной, сине-вороненый блеск реки, и потяжелел мой велосипед: на раме — красный платочек к моим глазам, смуглая щека к моей щеке — склонилась Зина. Видишь, дед, мне и это оказалось под силу! Но я не хочу терять скорость и чувство полета. Прощай, Зина, я возьму тебя в другой раз.
И опять легок мой велосипед, я поворачиваю его вспять — зачем мне река? — и мчусь быстрей и быстрей, будто подхваченный вихрем. А рядом мчатся на тонких велосипедах отец, дядя и мой умерший дед, в клетчатых рубашках и плоских кепочках. Не зря верил я в чудо велосипеда — он соединил живых и мертвых в прекрасной, захватывающей дух гонке, он отрицал, убивал смерть, тонкий, рогатый, металлический, легкий и стремительный бог!
И уже не скованные земным пространством, мы уносимся в небо. Под нами колышутся зелеными волнами кроны деревьев, проплывает купол Армянской церкви с золотым цветком креста и, в очерненной позолоте, главы и кресты русской церкви, наждачно-сухие зеленые и красные крыши московских домов, и голуби, как приколотые, висят над крышами у чердачных окошек — наша быстрота наделила их недвижностью…
Мы молчим, даже не улыбаемся друг другу. Нас связывает движение, в нем наша общность, и наше тепло, и радость свидания. Вот галки сажей помазали небо впереди, и мы проносимся сквозь черные хлопья в синеву и чистоту; в светлом прорыве лишь мы да серпики ласточек, и бьется, и замирает сердце от счастья полета и узнанной тайны: пусть дед ушел, но всегда наготове его быстрый велосипед, чтобы соединиться с нами, живыми…