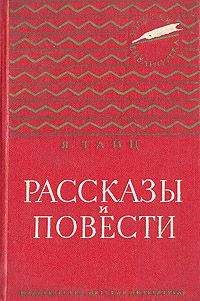— Нет, не читала. Там очень маленькие буковки. Мы такие не проходили.
— Эх вы, «буковки»! — усмехнулся Лёша. — А знаешь, Таня, я бы тоже хотел написать воспоминания…
— Про кого?
— Ясно, про кого: про папу.
Таня сказала:
— Я бы тоже…
— Что — тоже?
— Воспоминания про папу.
Лёша легонько дёрнул Таню за косичку:
— Чудная ты, Танька! Какие могут быть воспоминания, раз ты его не помнишь!
— А может, я вспомню. Вот буду о нём думать, думать — и вспомню.
Лёша ничего не ответил.
В комнате становилось всё темней, но света зажигать ни Лёше, ни Тане не хотелось.
— Не знаю, про что рассказывать, — начал Лёша. — Про Кунцево, что ли? Но раз ты не помнишь… А я помню, как мы поехали туда, к бабушке, и ночевали там, а папа тебя вареньем кормил с ложечки, а ты вся измазалась, пчёлы так и липли к тебе, а ты — ничего, только отмахиваешься и кричишь: «Исё, исё!» А потом мы все пошли на Москву-реку купаться, и тебе там щёки отмывали, а ты болтаешь ногами, орёшь вовсю, а папа стоит на берегу и приговаривает: «Так её, так! Исё, исё!» Таня засмеялась:
— Он был смешной, да?
— Ох, он любил смешить! Шутил всё. А потом мы пошли домой и узнали, что война. А раньше, понимаешь, мы ничего не знали.
— Ну и что? И дальше?
— Ничего. Началась война, и всё.
Лёша замолчал. Как рассказать Таньке про те первые дни, про то, как Москва сразу вся потемнела, словно насупилась, про то, как проходили по улицам колонны бойцов с грозной песней:
Идёт война народная,
Священная война…
Лёше вспомнилось, как однажды он побежал за такой колонной, и один из бойцов сказал: «Пойдёшь с нами, сынок?» — «Пойду», — ответил Лёша и долго шагал в ногу с колонной и подпевал:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!
Сразиться с силой тёмною —
С фашистскою ордой.
Потом боец сказал: «Ступай домой, сынок, ступай, а то заблудишься». Бойцы ушли, а Лёша прибежал домой и сказал: «Папа, пойдём на войну!» И запел: «Вставай, страна огромная…» А папа сказал: «Нет, Лёша, сначала я пойду, а потам уж сообразим насчёт тебя». Но папа долго ещё оставался дома, потому что завод не отпускал. Ведь он работал на военном заводе. Потом он даже домой не приходил, а всё время был на заводе и ночевал там. Это называлось — на казарменном положении.
Но как обо всём этом рассказать Тане?
— Ну, что ж ты? — сказала Таня.
— Пусти-ка, Танька, нога затекла! — Лёша сел поудобнее. — Вот… значит, началась война. Начались дежурства… Затемнение… Детей стали эвакуировать…
— А это что? — спросила Таня.
— Это значит — увозить подальше от Москвы. Потому что начались налёты. Каждую ночь. Прямо спать не давали. Но мама сказала, что она из Москвы не уедет. И я тоже сказал: «Не уедем!»
— И я бы тоже так… — сказала Таня.
— Правильно! А немцы всё ближе к Москве. И вот раз папа пришёл с завода и говорит: «Пришёл проститься, иду». Мы сразу поняли куда и стали его собирать. А вечером пошли провожать на сборный пункт — там, за площадью Маяковского.
— И я пошла? — спросила Таня.
— Ага! Папа тебя ещё на руках нёс. Идём, а кругом темень! Идёт машина, а её не видно, только маленькие синие подфарники. Идёт трамвай, а его не видно… Так и кричали: «Кондуктор, какой номер?» Добрались мы до площади Маяковского. Папа стал прощаться с нами и говорит: «Ждите, я вам письмо напишу. Теперь фронт близко, письмо живо дойдёт. И полевую почту вам напишу — и всё».
— Какую полевую почту? — спросила Таня.
— Это тогда так писали, адрес такой: номер — и всё.
— А где же письмо? — сказала Таня. — Ведь письма не было.
— Не было, — отозвался Лёша, — но мы тогда думали — будет. А потом папа сказал: «Лёша, ты теперь один мужчина в семье, имей в виду». И всё такое. И чтобы я маме помогал…
— И меня не обижал, — подхватила Таня.
— Про это он ничего не говорил. А я тебя и так не обижаю.
— А я ничего не говорю, — сказала Таня. — Дальше…
— Дальше — всё. Папа остался, а мы пошли домой. И вдруг — вуууу! «Граждане, воздушная тревога!» А мы тут, недалеко от Маяковского метро, — и, значит, туда. А там тепло, светло. Как сейчас. Только на платформах, вот где люди ходят, везде лежаки — пожалуйста, ложись, спи. На них всякие старушки, мамы с детьми. Ну, и мы пристроились. Я ведь ещё тогда маленький был… Сколько? Семь лет. Ещё в школу не ходил…
— Ого, даже поменьше меня был! — удивилась Таня.
— Да… Ну вот. Сели мы. А ты всё таращишь глаза на лампы, а потом заснула. А я говорю: «Мама, поспи, а я посижу с Танькой», — и незаметно сам заснул. Потом, чувствую, мама будит: «Пора, Лёша, вставай». А мне спать ещё, ой, как охота! Открыл глаза и сначала даже не понял, где я. Мне уж там снилось что-то хорошее, будто войны нет. Мама говорит: «Пошли, детки, — отбой». Поднимаемся на эскалаторе, а сами думаем: «Как там, наверху, Москва?» И вот вышли на Садовую… Светает, аэростаты спускаются…
— А, это я знаю! Это вроде рыбы, такие большущие…
— Ага… Смотрим — а Москва вся целёхонька! И только стекло хрустит под ногами. Это от волны…
— От какой волны, Лёша?
— От взрывной… от воздушной. В общем, от фугаски.
— От какой фугаски?
— Ну, от бомбы. Ладно, потом… Идём. Дошли до нашего переулка, и вдруг мама меня как дёрнет за руку, как закричит: «Батюшки, Лёшенька, да что ж это!» Я смотрю, Танька, вижу — нашего дома, вот где мы жили, нету. То есть он есть, только это уже не дом, а просто развалины. Крыша пробита, стена обвалилась, и всё вот так вот исковеркано.
Таня крепче прижалась к Лёшиным коленкам и повела плечом:
— Как страшно!
— Ещё бы не страшно! Если б не папа, если б мы его провожать не пошли, нам бы всем тогда конец был…
Таня посмотрела на Лёшу:
— Какой конец?
— Обыкновенный конец — и всё. Выходит, папа нас всех спас тогда. Ты заплакала. Даром что такой клоп была, а поняла, что дом разбомбили. Даже я и то заревел. А мама говорит: «Деточки, не плачьте! Это ещё счастье, что никого дома не было», А у самой слёзы.
— А я никогда не видела, как мама плачет, — сказала Таня.
— И я, — сказал Лёша. — Только когда извещение получили…
Лёша снова замолчал. В комнате стало совсем темно и тихо. Только снизу, со двора, с улицы, доносились весёлые голоса неугомонных ребят, звонки трамваев, гудки машин — весь обычный гул огромной Москвы.
Зимой его меньше слышно, но летом, когда окна открыты, этот шум не прекращается ни на минуту. И даже если глубокой ночью встанешь и прислушаешься, обязательно услышишь невнятный, но ровный, бодрый гул — гул Москвы.
— А потом что? — сказала Таня.
— Потом ничего. Походили мы около развалин, вытащили, что смогли: папин стол, диванчик этот, игрушки-погремушки твои. Потом пошли в райсовет, ночевали у каких-то соседей, а потом нам эту квартиру дали, в новом доме…
Таня сказала:
— А я знаю… А я знаю, почему от папы письма не было.
— Почему?
— Знаю: потому что он по старому адресу писал, а мы уже в новом доме жили.
Лёша махнул рукой:
— Чудила ты! Будто мама не ходила на почту, будто не спрашивала!
— А может, оно где-нибудь затерялось.
— Не знаю, Танька. А может, папа просто не успел его написать. Ведь на войне знаешь как: командир даст приказ — бей врага, и ни шагу назад!
Лёша долго рассказывал. Таня слушала его и всё старалась вспомнить папу. И порой ей казалось, что вот ещё немножко, ещё чуточку — и она его всё-таки вспомнит.
Глава третья
СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ
Наконец пришла мама. Она вошла в комнату, увидела, что темно, стала нашаривать на стене выключатель и сказала:
— Ау, птенцы! Где вы тут?
В комнате сразу стало очень светло. Лёша и Таня щурили глаза и смотрели на маму. Таня подбежала к ней:
— Почему так поздно?
— Надо было, дочка. А вы что же это, опять на подоконнике сидели!
— Мама, мы ведь уже не маленькие.
— Знаю я таких немаленьких! И почему в потёмках, как совы?
— Просто так, — сказал Лёша. — Вспоминали всякое…
Мама поставила в угол сумку, сняла жакетку:
— Вы что ж это, не ужинали ещё? Ах вы такие-сякие, живо за стол! Я сейчас…
Она пошла к себе в комнату переодеваться. А Лёша с Таней стали подавать на стол: три тарелки, три чашки, три ложки — всё по три.
Потом сели ужинать. Хорошо, когда мама дома, сидеть за столом, покрытым белой скатертью, под яркой лампой… Лёша пил чай из стакана с подстаканником, а мама с Таней — из чашек. Ужинали молча, потому что папа не любил, когда за едой болтают. Говорили только самое необходимое: «Лёша, отрежь Тане хлеба», «Таня, подай чашку», «Мама, подлей горяченького»…
После ужина Лёша с Таней вымыли посуду — три тарелки, три ложки, всё по три, — смахнули крошки со скатерти, подмели, причём Таня держала совок, а Лёша заметал на него мусор.