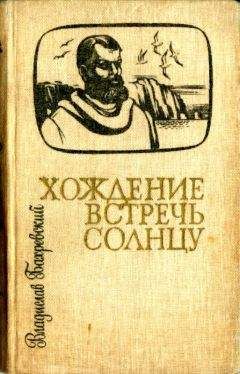но все уходили от него несолоно хлебавши.
Устроился Проня на завалинке и спрашивает дедушку Микешу напрямки, без вилянья и околесицы:
— Скажи, дедушка, где мне жемчужину окатную, заветную сыскивать? Тебе, говорят, ведомо жемчужное место.
Поглядел дедушка Микеша на парня искоса, от солнца бороды не отворачивая. Парень в плечах, лицом чист, а в глазах, однако, омутки.
— Зачем тебе жемчужина окатная? Невесту, чай, богатую высмотрел? Поди на реку, шапку жемчугу, потрудясь, и ныне можно наловить.
— Какое там шапку! Пяти зёрен не сыщешь, — отвечает Проня. — Перевели жемчуг. А про невесту — верно говоришь, высмотрел, только сватов не шлю. Есть у меня про нашу жизнь три сумления. Спросить про них, окромя царя, некого. А к царю ходить — можно и без головы остаться.
Тут дедушка Микеша обоими глазами на Проню поглядел:
— Какие же это у тебя сумления?
— Да такие. Хочу царя спросить: отчего богатство у недоброго, земля — у праздного, суд — у бессовестного. Может, царь, послушав моих вопросов, в нашу, крестьянскую, сторону царской ручкой шевельнёт?
Дедушка Микеша бородою лысину вытер, да и говорит:
— Тебя во дворец на порог не пустят.
— С пустыми руками — взашей погонят, — соглашается Проня, — а с жемчужиной окатной, пресветлой — дорожку в ноги постелят.
— Только заикнёшься — отберут у тебя жемчужину.
— А я про неё дворне не скажу, откуплюсь жемчугом половинчатым, зубоватым, угловатым, уродцем…
Засмеялся дедушка Микеша:
— Царь на золоте сидит, а крестьянин — на земле. Царя уму книжники учат, а крестьянина — земля да небо. Неравную, Проня, ты мену задумал: красоту — на царское слово. Ну да ладно. Не о себе думаешь, о людях. Подставляй ухо.
И ничего-то с парня не запрашивая, пошептал ему, где да что, а потом снял с себя суровую нитку, а на той нитке — птичий манок. Свистнул раз, свистнул два, а на третий — прилетел белый сокол. Дедушке Микеше на плечо сел.
— Послужил мне, старому. Послужи теперь молодому.
Поворотил сокол голову, поглядел на Проню. Один глаз у птицы — ночь, другой глаз — день.
— Когда надо будет, покличешь, — сказал Микеша. — Птице сверху больше нашего видно.
Поклонился Проня дедушке Микеше и пошёл домой тепла дожидаться. Пока лёд в море не утянет, пока большая вода не сойдёт — о жемчуге и думать нечего. Да ведь и сеять надо.
Отсеялся — май уж на середине. На зелёной травке, на вечернем тепле девушки с парнями вовсю хороводятся.
Вот однажды сидит Проня на бугорочке, девичьи песни слушает, сам на боры заречные поглядывает.
Ай, как синяя вода разливается,
Ай, зелёная трава расступается.
Как лебёдушка да с лебедем милуются,
Лебедями — люли! — девушки дивуются.
Девушки все в сарафанах, в кокошниках. Онучи на ногах беленькие, лапоточки липовы все с песенкой. Сарафаны — с рукодельицем. Кокошники в жемчугах.
А на простушке Луше пане́ва бабушкина да платочек. Панева — не девичья одежда, только другой в избёнке вдовьей не сыскалось. Всего украшения у Луши — трава-колокольчик в белых зубах, алых губах.
Девушки все павами, а Луша — перепёлочкой. Кому кокошник поправит, кому онучи ловчей накрутит. Сама, глаза разулыбя, на белый свет не нарадуется.
Поглядит Проня на Лушу — на сердце снегирь, поглядит на боры заречные — ворон. Заречные боры — нехоженые. Леший в тех борах живёт припеваючи, незваных гостей норовит так пугануть, что весь век потом медвежьей болезнью маются.
Взгрустнул Проня, Луша тут как тут:
— О чём кручина? В хоровод не идёшь, песен не поёшь.
— Да вот гляжу да прикидываю, — отвечает Проня, — какая сорока тебе боле к лицу: о яхонтах али в жемчуге?
Сорока — тот же кокошник, только с повоем, и носят его замужние.
— Яхонт царице к лицу, — отвечает Луша, — а жемчуг весь уж выловили. Мне солнышко заместо кокошника.
И руку подаёт:
— Пошли, Проня, в круг!
Только они стали в хоровод, богатая Васёна и говорит своему богатому Власу:
— Гляди, всяк сверчок знает свой шесток! Мы с тобой богатые — вот и пара, а у них, голяков, у Прони с Лушей, — тоже пара.
Глупое слово — глупому обида. От Лушиных ушей Васёнины слова ветром отнесло, а Проня на боры заречные смотрел…
Ранёхонько пришёл Проня на реку, а в лодке — Луша с кринкой.
— Знаю, куда ты собрался. Возьми маслица на дорожку, чай, пригодится.
Взял Проня кринку, попрощался с Лушей и — за реку.
На другом берегу поглядел через плечо на Лушу, на родную деревеньку и ступил в дубраву, что заставой стояла перед Красными борами. Не дуро́м ступил, по-учёному. На все четыре стороны слово сказывал:
— Хожу по лесам, по кустам, по мхам, по болотам, по ягоды-грибы, по птицу-зверя, по жемчуг ясный.
Куда ни хожу, никогда не блужу. Солнце — по солнцу, месяц — по месяцу, а тебе, лесной хозяин, покорность отдал. От меня, раба, отшатнися, в чёрный дуб обернися.
Тут колода гнилая, что лежмя лежала поперёк Прониной дороги, зашаталась, задвигалась, поднялась стоймя. Затрещала, как гром, сучья по небу раскидывая, обернулась дубом — всем дубам дуб.
Проня дух перевёл — да через дубраву, всё вверх, вверх — в Красные боры, подальше от лешего.
Пришёл к реке именем Светлынь. Дно у реки золотое, здесь солнышко по дну босиком ходит.
За третьей старицей нашёл плот, сбитый дедом Микешей для жемчужного промысла, с оконцем посередине. Лыко с колышка снял, шестом оттолкнулся — да и поплыл.
Сам лёг над оконцем, рубахой накрылся, чтоб солнце глаза не слепило, и глядит на дно. Пескари стайками шмыгают, щука поперёк течения стоит, вьюны вьются. Вдруг — ракушки! Проня плот шестами заякорил, собрал раковины и дале поплыл. Нагрёб ракушек целый ворох. А разломил — добыча в горсти уместилась. Три жемчужины половинчатые, три угольчатые, одна уродец, одна окатная, круглая, да вот незадача — с брусничку.
Оттого и перевёлся жемчуг в русских реках, что много хотели, да мало находили. Думали, жемчугу перевода нет.
Положил Проня жемчужные зёрна за щёку, чтоб заморить. Два часа с дутой щекой ходил, потом завернул зёрнышки в мокрую тряпицу — и на грудь. Красоту жемчужина добирает