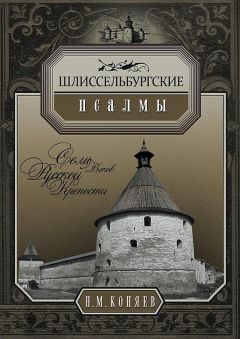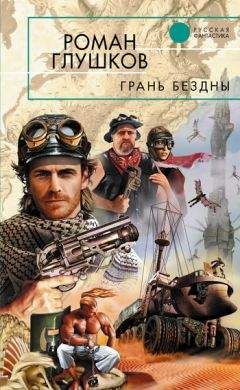Ветреник наш не мог уже сомневаться, что он очутился в западне, из которой нет ему выхода.
— Я, простите, не совсем понимаю, к чему вы речь ведете, господин комендант, — бодрясь еще, говорил он, невольно, однако, ища глазами своего личарду, который между тем появился в дверях.
— А вот камердинер ваш все сейчас разъяснит, — сухо отвечал Опалев и повернулся в Лукашке: — Подойди-ка сюда, любезный.
Смышленый калмык уже по строго-начальчиниче-скому тону хозяина не мог не смекнуть, что дело что-то неладно. Он окинул горницу быстрым взглядом. Дверей там было всего двое: одни вели в прихожую за его спиной, где, кроме вестового, торчали под ружьем трое часовых, другие — во внутренние покои, откуда выбраться на свободу, очевидно, нельзя было и думать. Но в горнице было еще три окна, небольших, правда, и заставленных вдобавок цветами, но все открытых настежь.
— Ну, что же? Подойди! — властно повторил комендант, указывая пальцем место на полу в двух шагах перед собою.
Лукашка повиновался и двинулся вперед на указанное место.
— Где ты, скажи, был до сих пор?
— Где-с? Да тут же на лестнице: ждал вот господина маркиза.
— Только?
— Н-нет… Прогулялся перед тем и по двору.
— А может быть, и по валу?
«Часовой, знать, подглядел и донес, — сообразил калмык. — Стало, запираться все равно ни к чему не поведет».
— Да, и по валу, — отвечал он.
— И что же делал там?
— Да посидел, поглядел на Неву…
— О! Он у меня ведь и поэт! — с развязным смехом вмешался Иван Петрович. — Мечтатель и поэт! Верно, сочинял опять стишки.
— И записывал тут же в записную книжку? — досказал Опалев. — Покажи-ка их сюда, любезный.
— Стихи мои так плохи, что показать их вашей милости я никак не посмел бы… — с притворной скромностью отвечал Лукашка, шаг за шагом отступая в сторону ближайшего окошка.
— Вздор! — выпалил теперь майор де ла Гарди, которого до этого времени удерживала от вмешательства в допрос субординация перед начальником. — Он просто снимал план цитадели. Обыскать негодяя!
Роковое слово «план» был произнесено; никакие дальнейшие увертки ни к чему бы уже не послужили. Оставалось одно: прибегнуть к своему спасительному искусству — подражать всевозможным животным. Моментально оскалив до ушей свои длинные, белые зубы, дико поводя кругом белками глаз и скрючив пальцы рук наподобие звериных когтей, Лукашка с таким угрожающим, поистине медвежьим рычанием ринулся на скучившихся кругом офицеров, что те под первым безотчетным впечатлением, как перед рассвирепевшим зверем, отстранились и дали калмыку дорогу. Вслед затем все они схватились, конечно, за сабли, но одурачившего их двуногого медведя в горнице уже не было: сбросив с подоконника на двор цветочные горшки, он с ловкостью акробата сам выпрыгнул туда же.
Поднялся невообразимый переполох. Среди криков: «Держи его! Держи!» — офицеры кинулись к окнам. Однако у одного только фенрика Ливена достало духу повторить salto mortale калмыка из второго этажа с трехсаженной высоты. Но так как окно было, как сказано, довольно невелико, то долговязый юноша хватился сперва лбом о верхнюю перекладину, потом не знал, как управиться со своими длинными ногами, пока чья-то дружеская рука сзади не придала ему смелости совершить отчаянный прыжок. Вслед затем стоявшие наверху у окон услышали снизу громкое «ох!». На вопрос, что с ним, бедняга простонал, что нога-де подвернулась, жилу, кажется, вытянул.
Тем временем де ла Гарди и Фризиус, опасаясь, чтобы господин, подобно камердинеру, как-нибудь не улизнул, схватили было с двух сторон за руки Ивана Петровича. Но тот стряхнул обоих с себя со словами: «Не уйду, не беспокойтесь» — и, покорясь судьбе, присел опять на свой стул у клавесина, положив ногу на ногу.
Комендант, убедясь в миролюбивом настроении изобличенного врага, счел первым долгом распорядиться поимкой его слуги и, подозвав к себе одного из адъютантов, отдал ему несколько коротких приказаний.
— Да собак с цепи спустите! — крикнул он вслед уходящему.
— Бога ради, папа! Ведь они же у нас презлые, они его растерзают! — услышал он за собою трепетный голос дочери.
— А! И ты еще здесь? И ты, сестра, тоже? Ну, милые, тут вам теперь совсем не место.
Сказано это было так холодно и повелительно, что ни та, ни другая не осмелились прекословить. Но на пороге, куда он последовал за ними, чтобы притворить дверь, фрёкен Хильда шепотом сделала еще вопрос:
— А что же будет с ними?
— Завтра узнаешь! — был ответ.
— Папа, дорогой вы мой! Не будьте слишком безжалостны…
— Да, братец… — решилась вставить со своей стороны фрёкен Хульда, у которой, как и у племянницы, на глазах выступили слезы.
— Опять эта сырость! — морщась, сказал комендант. — Не мешайтесь, пожалуйста, не в ваше дело. Марш! Ну, скоро ли?
А со двора между тем среди плеска дождя доносился уже шум и гам подлинной травли: беготня и перекликающиеся голоса часовых; выстрел, другой и третий, собачий визг и лай…
— Фонарь сюда! — можно было расслышать голос фенрика Ливена. — Так и есть: кровь! Стало быть, он ранен!
— Слышите: кровь! ранен! — говорили меж собой толпившиеся у окон товарищи Ливена, которым не только из-за густой темноты, но еще более из-за высокого частокола не могло быть видно, как внизу вала раненый калмык, шагнув уже в лодку, должен был отбиваться веслом от налетевших на него свирепых волкодавов.
— Ему уже не уйти, — уверенно сказал хозяин, возвращаясь к сидевшему еще у клавесина гостю. — Теперь, милостивый государь, ваша очередь. Вы, я вижу, рассудительнее своего слуги и потому, разумеется, не станете попусту запираться. Признайетесь-ка прямо: вы — русский?
Шейлок.
Тот мяса фунт, которого теперь
Я требую, мне очень много стоит;
Он мой, и я хочу иметь его.
Шекспир
И, словом, так была юстиция строга,
Что кто кого смога, так тот того в рога.
Фонвизин
Прямой вопрос требовал и прямого ответа. Что пользы, в самом деле, было бы еще отпираться? Бегство калмыка было слишком явною уликой; а сейчас вот Лукашка будет, конечно, и схвачен, при нем найдут план цитадели — ну, и конец.
— Да, я — русский, — просто отвечал Иван Петрович, не выказывая ни особенного испуга, ни замешательства.
— Ага! Кто был прав? — торжествуя, воскликнул майор де ла Гарди. — Я всегда говорил, что он подослан русским царем, что он шпион…
С видом человека, не знающего за собою умышленной вины, наш русский гордо приподнялся с места и обвел обступивших его шведских офицеров открытым взором.
— Я верный слуга моего царя, но не шпион, — сказал он. — И если вам только угодно будет выслушать меня…
— Audiatur et altera pas, совершенно верно, надо выслушать и противную сторону, — вставил коммерции советник Фризиус, важно кивнув головою.
— Вздор! Галиматья! — буркнул де ла Гарди. — Какие с ними еще церемонии? Довольно гвоздя и петли!
— Если они точно заслужили такой крупной кары, то, вероятно, ее и не избегнут. Но festina lente: тише едешь, дальше будешь…
— Простите, уважаемый друг мой, — с сухой вежливостью заметил комендант, — в военное время ваши гражданские максимы не применимы. Военный суд — скорый и строгий, но без суда мы все же никого не предаем смертной казни.
— Вздор! Я требую смертной казни и настою на своем, sapperlot! — перекричал его опять горячий старик майор.
— Майор де ла Гарди! Прошу вас взвешивать ваши выражения, — не повышая тона, но с начальнической осанкой прервал протестующего Опалев. — Как вот господин коммерции советник, так точно и вы в настоящем случае не более, как приватный человек, и никакого решающего голоса не имеете.
Коммерции советник, привыкший, чтобы изрекаемые им «максимы» принимались во всем Ниеншанце «на вес золота», как непреложные истины, был, казалось, несколько оскорблен тем резким, чисто солдатским обращением, которое допустил себе и в отношении его, Фризиуса, будущий тесть его. Он нахмурился, но, не возразив уже со своей стороны ни слова, взял с края печки свою шляпу и, молчаливо отдав всем присутствующим короткий общий поклон, с высоко поднятою головою, не спеша удалился из горницы.
Не то старик де ла Гарди: из-под пушистых бровей его сверкнули молнии, губы его судорожно искривились и на углах их показалась пена.
— Как? Я — приватный человек? — зарычал он вызывающе, со сжатыми кулаками подступая к коменданту. — Я, сударь мой, по воле короля, обязан теперь подчиняться вам, правда, но на деле я такой же примерный боевой солдат, как и вы…
— Были таким же, а может быть, еще примерней, — с той же сдержанностью отвечал Опалев, — но с тех пор, как вы в резерве…