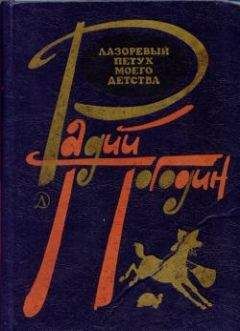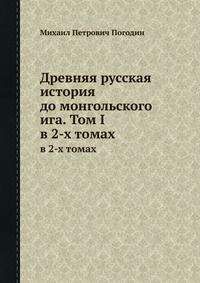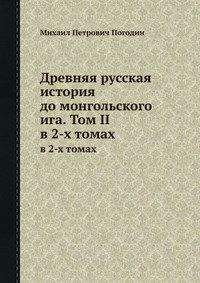Мне тогда пожаловались солдаты: бьет, мол, а откуда – не знаем. Бьет, нечистая сила.
Я за ним месяц охотился. Неделями в часть не возвращался. С лица почернел. Заноза в груди – помру, а добуду. Меня два раза поп отпевал: за упокой героя – георгиевского кавалера. А он все хлещет, будто мокрым кнутом. Я от этого звука разум потерял: течет на меня небо – дождь пополам с кровью. Солдаты русские падают на сырую землю.
Дождило. Фронт на одном месте полгода стоял, и все дожди, дожди. Я за ним, он – за мной. Так и ползали, как лютые змеи. Он меня из этой винтовки и чмокнул в шею. И приполз, дурак, ко мне – посмотреть на меня мертвого. Вот тогда я его капитально на нож взял. Молодой, а уже обер. Холеный, видать, сановитый, иначе откуда ему такая винтовка? Я его приволок в окопы, чтобы солдатики поглядели на нечистую силу.
Володька осторожно погладил винтовку. От прикосновения пальцев остались на ней тающие голубоватые полосы. Кузьма головой потряс – согнал с себя дремотное оцепенение. Передвинул канистру, чтобы стрелять из другого окна. Опять долго прилаживался. Направление ствола указало Володьке, что сейчас немцы станут падать на большой проезжей дороге, что идет прямиком к станции. Возле самого леса станут падать, и лес возьмет на себя вину за их гибель.
Дважды хлестнула винтовка, Кузьма аккуратно прислонил ее к канистре, пошевелил пальцами, словно они занемели.
– Подождем. День у нас будет длинный.
Кузьма опять задвинулся в угол и, как в больную дремоту, погрузился в воспоминания.
Всю революцию с гражданской войной Прохоров Кузьма отсидел дома, сочувствуя то тем, то другим, но в боевые действия не ввязываясь.
Когда деревенский комитет бедноты отобрал до единой все тринадцать ветрянок, чтобы владеть ими миром, оставив Прохоровым скот, луга да яровой клин под ячмень на пиво, Кузьма вытащил было винтовку из сундука. Тяжесть и строгость штучного оружия охладили его сразу. Мысль в голове пошла: не солдат он будет в этой войне – убийца! Как не солдат, если четыре «Георгия»? Там, на той войне, враг был чужой, очевидный. А сейчас? Савельев малявинский, что из германского плена вернулся весь черный, он – враг?.. Бегут сейчас мужики друг на друга с криком. Одни: «За волю, за землю!» Другие: «За веру, за царя!» Сейчас страсть человеческая схлестнулась. А он станет выжидать спокойно, прицеливаться хладнокровно и убивать. Кого? За что? Нет, снайпер, одинокий стрелок, охотник в такой войне, не солдат – убийца…
Отец с матерью, увидев винтовку у него на коленях, крестясь наступили, велели оружие выбросить в глубину озера и не помнить о нем. Как красоту выбросить? Позабыть как? Ее память держит. Память без красоты – мякина. Отец и мать понимали, каково их любимому сыну расставаться с этой винтовкой, все равно что с «Георгиями», убранными в сундук поглубже, все равно что с гордостью и с уважением к себе, «которые только и делают человека свободным». Отец велел ему спрятать винтовку и вспоминать о ней как о молодости, но ни в коем случае как об оружии. «Мы ни злодеями не были, ни душегубцами. Даст бог, и ты не будешь».
Кузьма хорошенько смазал винтовку, завернул ее в льняные полотенца, сухие и чистые, и уложил вместе с четырьмя Георгиевскими крестами в узкий ящик, сколоченный специально, залил воском и крышкой заколотил. Ночью он спрятал винтовку возле церкви в могилу, рассчитав, что церковь – постройка незыблемая, а могилы, что рядом с ней, нерушимы. Могилу он выбрал местной купчихи, которая, лишившись мужа, достояние свое передала церкви на строительство колокольни. Кузьма поднял плиту с длинной надписью, заросшей мхом и травой, схоронил под ней свою боевую славу, думая, что навек.
Ветрянки по буграм шумели, мололи крестьянам по их достатку, а жернова насекать опять ходили Прохоровы, получая за эту работу оклад от Совета. Кузьма пооттаял несколько. Задумал уехать в Питер открывать свое дело в городе – шорно-кузнечную мастерскую.
По прошествии нэпа шорную мастерскую и магазин у Кузьмы отняли.
«Репрессировали меня по моей жадности, проистекающей от безверия, – винясь, писал он отцу с матерью, – потому как я принялся для будущей своей хладнокровной жизни скупать золотые червонцы, кольца с каменьями, а также ризы… Строим мы Беломорканал».
По окончании срока отправился Кузьма в Хибины, где строил медно-никелевый комбинат и работал на комбинате возле конвертера.
Мать и отец к тому времени померли.
Позже Кузьма часто вспоминал цех в сквозняках, грозный лязг кранов и шорох ковшей, проносящийся над головой огонь. В цехе он ходил в противогазе, в валенках, в суконной толстой робе и войлочной шляпе. Слышал немецкие слова: «Штейн, файнштейн, штейгер…» Они напоминали ему окопный фронт, где он был счастлив от сознания своей нужности и умения.
В сороковом году осенью с него сняли запрет на передвижение по России и разрешили селиться, где ему охота. И хотя на родине, в Засекине, делать ему было нечего – родных у него там не осталось и надеяться было не на что, и лучше было, если умом раскинуть и рассудить здраво, никуда не трогаться с места, а оставаться работать возле конвертера, тем более что был он на хорошем счету и на Красной доске, Кузьма рассчитался и забрал со сберкнижки скопленные для этого случая деньги.
Со станции он бегом шел, надеясь с бугра увидеть ветрянки вокруг родного Засекина. Машут ветрянки крыльями. Шум от них веселый над родной землей. А запах – медом теплым, сытной мукой и льняным маслом…
Село лежало, распластанное на земле, как коровий блин. И никто не махал крыльями, не вздымал его над землей, не торопил ввысь – только галки на колокольне.
В горячем цехе с холодными сквозняками Кузьма не раз представлял родное село именно таким, расплющенным, расползающимся по сторонам длинными сощуренными коровниками. Знал: того, что он ищет, там уже нет. Как зерно, привыкшее испокон прорастать в почве незыблемой, Кузьма не мог пустить росток в землю движущуюся. А вокруг все двигалось, перемещалось, преобразовывалось. Была одна глухая надежда, что Засекино, земля, бедная нутряными богатствами, так же пашет, так же сеет, так же растит свой крестьянский злак, так же мелет его по старинке и, объединенная в единый колхоз, все же живет по-прежнему.
Конечно, здесь движение земли было менее заметно, чем в других местах, но, замеченное все же, оно показалось Кузьме наиболее страшным и необратимым. Города – песок, деревни – горы гранитные – так он думал всегда. Если горы пойдут ломаться, то останутся на их месте пригорки – и только, а может быть, совсем пустыня.
Громадное небо над ним, синь-пересинь, вдруг застаканилось, покрыло землю колпаком без единой дырочки.
Да и что в них сегодня? При мокром ветре, при дождях работать не могут – отсыревает мука, не тот вкус уже, не тот запах. В бурю работать не могут – буря помол развеет, крылья сломает, жернова разнесет на куски. Работают ветрянки лишь при ровном ветре, а лучшую свою работу дают при сухом и при ровном.
Может быть от долгого взгляда на родное село, которое обманывало и манило его столь долго, шея Кузьмы напряглась, приподняв щеку; глаз левый перестал мигать, рот перестал дергаться. Но Кузьма этого не заметил, сел отдохнуть на траву, потом лег и долго глядел в небо, как в воду.
Бабка Вера к деду Савельеву забежала, вернее, протиснулась сквозь скопление немцев в старикову избу. Рассказала о сбежавшем Володьке, сетуя, что старик больной и не сможет оказать ей помощь в быстрой поимке «варвара этого» и «ордынца бессовестного», подмела пол и ушла к себе.
Дед Савельев лежал на печке. Телу не было больно – больно было вокруг. Он уже больше недели хворал. Сенька да бабы принесут дров, истопят печку, дадут попить, дадут картошки.
Лежит дед на печке в больном пару, а самому холодно. Овчинным тулупом пахнет – запах зимний. Иногда откроется дверь – птицей влетит в избу запах весны и при закрытой двери умрет. Весна не терпит закрытых дверей, она не может в плену, даже в теплом.
Последнее время двери, поди, все время открыты – немцы идут сквозь избу, как сквозь нужник. Спят в ней, и едят, и пьют, и харкают. Но не слышит их дед Савельев и, глядя на них, не видит. Дед Савельев слышит весну и одну ее слушает. Она трогает и ласкает его пальцами розовыми. Она шепчет ему: «Все проснулось, старик. Ожило, запело любовными голосами».
Думает старик: «Любовь – сила сильная, сильнее всех сил. А мне что? Мы, старики да старухи, бесполые. Любая старуха старику любому может в беде штаны расстегнуть. И у ребятишек-малолеток такое же, но и не такое, поди. Они друзья сразу и до самых глубин. Улыбнутся друг другу, и сразу все друг про дружку знают. Могут рядом сидеть на горшках и целоваться, вот она – весна, это и есть суть весны. А мы, старики, уже над весной и над осенью. Наше дело – жалеть».
Бегут стариковы мысли врасхлест, несуразно. Жалеет старик Володьку ушедшего. Жалеет бабку Веру – куда там, так надсадилась. «Да придет твой Володька. Я думаю, приедет на танке с красной звездой, он таковский. На танке приедет вместе с красноармейцами».