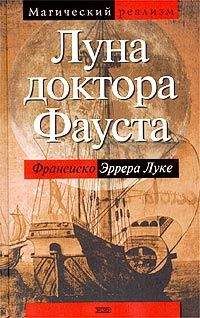— Не гоните ее, — сказала Маргарита Михайловна, — мы ничего тайного не говорим, пусть послушает. У нас в школе готовится вечер на тему «Дружба и любовь». Они прочитали и изучали много прекрасных книг о любви…
— Одно дело — книги, другое — жизнь.
— Это… ханжество! — выдохнула Маргарита Михайловна. Модест Григорьевич сделал вид, что не слышал этих слов. А Маргарита Михайловна заговорила мягко и душевно:
— Извините, но, право, вы, Модест Григорьевич, чего-то не понимаете. Нет ничего страшного в чувстве влюбленности. Далеко не всегда оно превращается в любовь; часто, вспыхнув ярко, оно быстро угасает. Но это чувство приносит человеку подъем всех его сил, толкает к творчеству. Зачем мешать? А иногда первая влюбленность соединяет людей навсегда, делает их верными и самыми счастливыми спутниками — друзьями на всю жизнь.
Клара стояла на пороге, не имея сил уйти. Она немигающими глазами смотрела на Маргариту Михайловну, — бледная, с чуточку растрепавшимися надо лбом волосами.
— Нет, это я так не оставлю, — говорил Модест Григорьевич, нервно потирая руки. — Я пойду к директору.
— Пожалуйста, я уже говорила с ним. Он согласен со мной.
— Что, что?
— Он желает видеть вас.
— Я в ГорОНО, в министерство просвещения напишу…
Маргарита Михайловна застегивала пальто и не слушала Модеста Григорьевича, который, забыв про законы хорошего тона, не помог гостье одеться. Потом она подошла к Кларе и легонько обняла ее. У Клары на ресницах дрожали слезы.
— А мы с тобой, Клара, — мы еще будем друзьями; ведь правда? Ну, всего хорошего!
Клара стояла все там же, на пороге.
Проводив учительницу, Модест Григорьевич подошел к дочери.
— Ты плачешь? Она расстроила тебя? Вот чем заканчиваются порой посещения родителей на дому!
Клара взглянула на отца и вдруг с громкими рыданиями заговорила:
— Она права во всем! И я… Я люблю, как и Надя… люблю! Вот делай теперь что хочешь со мной… Почему нет мамы?.. Где мама?
Она пошла в свою комнату, до боли кусая кончики пальцев.
Модест Григорьевич приложил руку к заколотившемуся сердцу.
Эту ночь он провел, сидя в кресле, в тяжелом раздумье.
Подруги не раз допытывались у Нади Грудцевой, почему у нее распалась дружба с Черемисиным и с Кларой. Надя молчала.
В эти дни она перечитывала «Демона», отыскивая черты сходства между ним и собой. Таких черт не находилось, но это не мешало ей уподоблять себя лермонтовскому страдальцу. Особенно после попытки Маргариты Михайловны помирить ее с Анчером. Тогда она окончательно поняла его и перестала верить в него, а это было самым тяжелым; до этого она, даже после сцены в саду, верила в него и тогда была изумлена, увидев его не таким сильным, каким представляла. А потом, после разговора на террасе, она убедилась, что он действительно не такой… А как было радостно на его улыбку отвечать улыбкой, как хорошо было говорить с ним, спорить, мечтать! И вдруг — «Мне все равно»!..
Это было больнее всего.
Все. Кончено. Теперь она одна, и никто не может понять, как ей тяжело. И говорить об этом нельзя; как же!.. Пред-о-су-ди-тельно!
Почему предосудительно, почему нельзя? А вот оно пришло, налетело, это запрещенное чувство, и не спросило, в каком ты классе учишься и какова твоя успеваемость. И не с кем поговорить. С Лорой Грацианской? Несерьезна. Со Степаном? Ну, нет, как можно… Маме сказать? Да, ей можно, но не сейчас; ведь еще самой не все ясно. Вот если бы с Маргаритой Михайловной! Нет, нелепо и думать об этом после всего, что произошло. Разболтать сокровенную тайну, надерзить, наговорить глупостей, — тогда, во время «мятежа» — и расплакаться о своих неудачах!..
«Нет, никому, — думала горько Надя. — Ну, и что ж… И не нужно мне ничье участие и сострадание. Все перенесу одна, — как Демон!»
Примирение с Кларой не обрадовало Надю. Натянутое и холодное, оно только навеяло мысли о том, что теперь нужно будет опять выслушивать ее наставления, настолько же верные, насколько и скучные. Потому что Клара какой была, такой и осталась… А впрочем, это, пожалуй, не так. В последнее время Клара такая подавленная, одинокая. Что с ней?
Единственное, что приносило беспокойной душе Нади успокоение, — это работа. Она много, настойчиво работала. По математике она выбралась в ряд лучших учеников. Особенно упорно — и успешно! — она работала по литературе, выполняла стилистические упражнения невероятной трудности. Именно эта работа, изучение языка художественных произведений, стиля писателей, — больше всего захватывала ее. Однажды, например, ей надо было проанализировать язык сонета Пушкина «Поэту». Она исходила все библиотеки в поисках старых журналов со статьями о языке пушкинских стихов, ездила в пединститут, говорила там с преподавателями. Зато Маргарита Михайловна с восхищением сказала:
— Это, товарищи, умное, свежее исследование, очень интересное, — право! — И прочитала его в классе.
По вечерам она писала, — то горячо и самозабвенно, то со слезами на глазах. Не выходило, не получалось. Не в эти дни, а значительно позднее она поняла, почему не получалось. Потому что многого, очень многого она не знала. «Пиши правду жизни», — сказала ей когда-то Маргарита Михайловна. «Что ж тут такого? — думала Надя тогда. — Это легко: пиши обо всем, что видишь». Но оказалось, что одного «видения» далеко недостаточно. Обнаруживались скрытые законы и силы жизни, человеческих отношений; их-то Надя и не знала…
Глаза ее теперь чаще смотрели на все пристальнее и видели глубже.
Она пришла из школы, сняла пальто, села у окна.
В окно смотрела огромная красная луна, в комнате было сумрачно и тихо. Пахло сдобным домашним печеньем.
Перед глазами вставала школа, ребята, учителя.
Маргарита Михайловна… Как она хотела помирить их, как она была хороша в тот миг! Щеки порозовели, глаза лучились, улыбка оживляла лицо. И как она опечалилась, когда Надя не подала руки Анчеру! А что она могла поделать? «Мне все равно»… Значит, она была для него безразлична? Нет, не то. Просто он такой уж. Тут он весь сказался. Да, — как о нем сказал Степан? «Бычок на веревочке»! Ну, это он уж слишком. А впрочем — это близко к истине. Добрый, славный; иногда загорается, — и остывает быстро. Мечтатель…
Нет, это не то!..
Глядя на поднимающуюся луну, Надя припомнила, какой он был тогда, — растерянный, жалкий, беспомощный.
Ей стало не по себе. И не хотелось думать об этом.
Рассеяться, забыть это все!.. Что-то делать, работать, двигаться.
Ее озарила смелая мысль:
— В лес! Вечер? Ничего. На лыжах! Понесусь стрелой! Чтобы вылетело все из головы!
Через минуту она была уже в лыжном костюме. Но прежде чем выйти, подошла к шкафу — попробовать печенье. Она так увлеклась этим занятием, что не заметила, как кто-то вошел.
— Надя Грудцева! Мы к тебе.
В замешательстве Надя сунула пригоршню печенья за пазуху.
Ба! — Сергей и Пантелей! Те, что надоумили ее написать шутливо-серьезное объявление о премиях, те самые, которые теперь, вроде спутников, шли рядом с ней по одной литературной орбите.
— Вы зачем?
— Почему журнала нет? — спросили спутники. — Ждем-ждем…
— Здравствуйте!
— Здрасте!
— Я уже не редактор.
— Как не редактор? — гневно заломив шапку, спросил вихрастый поэт. — «Выше к звездам!» «Награды!», «Премии!». Наобещали с три короба и в кусты? Нет, брат, не выйдет. Выпускай. Там моя поэма.
— И мой рассказ, — вставил прозаик в башлыке и в широченном, наверно, отцовском ватнике. — Если, случаем, что не так, скажи. Помогнем.
— Идите к Черемисину. И помогните.
— Ходили. Он послал нас к лешему.
— Идите к Кларе Зондеевой.
— Ходили. Она начала говорить не разбери-поймешь чего, — шмыгнув носом, с великим неудовольствием начал поэт. — «Если, говорит, посмотреть с точки зрения…» Серега, чего?..
— Социалистического реализма, — помог приземистый прозаик.
— Во. «…то ваши произведения, говорит»…
— Дорогие ребята, — сказала Надя, — видите ли… У меня сейчас другие мысли. Мучительные.
— Немного понимаем, — сказал поэт.
У ног писателей натаяло много снегу.
— Вот пришли, наследили…
Надя направилась к двери, где, около печки, на веревочке, висела тряпка. Она подняла руку, печенье из-за пазухи посыпалось к ногам писателей.
— Эге! Вон какие «мучительные» — мучные — мысли! — с великолепным презрением сказал поэт. — Стащила у мамы, насыпала за пазуху и мучается.
Надя обомлела. Потом рассмеялась и, схватив поэта в охапку, стала тискать его.
— Довольно рассуждать… ничего вы не знаете… Дайте-ка, я вытру…
— Так-то оно так, — сказал прозаик, — а глаза-то у тебя все-таки… мокроватые. Плакала, да?
— Идите, идите. Вон мама идет. Мне хочется побыть одной. Я — в лес…