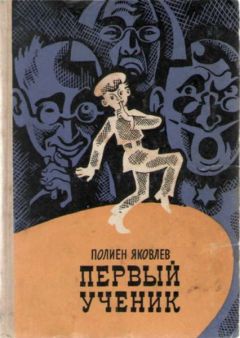— Да ну тебя, — нахмурился тот. — Не надо.
— Читай-читай, не ломайся, — сказал отец. — А ну-ка, закручивай. Ты свое прочитай, а я свое. Я, брат, тоже во какой поэт. Только мои стихи устные, нигде не писанные.
— Почему же не писанные? — спросил Самохин.
— А потому… Напишешь, а тебя — хоп! — и в кутузку. Во, брат, как. Ну, читай свое, а потом я свое. Да не ломайся… Что ты, барышня, что ли?
— Читай, Самоха, — подбодрил Володька. — Отец любит стихи.
Самоха встал, повздыхал, потом отважился и начал:
В море буря бушевала
Вот уже двенадцать дней.
В море шхуна погибала…
Прочитал до конца. Отец, слушавший внимательно, сказал:
— Ну что ж, молодец. Только напрасно ты свой корабль потопил. По-моему, было бы лучше, если бы твой корабль бурю-то победил. А? Знаешь, этак — волна на него, а он на нее. Раздул бы все паруса, и никакая гайка. Вот я на паровозе иногда в бурю, в метель шпарю, и никаких. Да… Вот как!
Отец вздохнул.
— Вообще слезу держи подальше, — сказал он строго. — Вот, например, Швабра тебя, говоришь, мучает, а ты что? А ты, как и твой корабль, — набок, и в воду? Зачем? Неверно делаешь. Ты делай, как мой паровоз — при и при вперед. Долетел до станции, набрал воды, ревнул гудком и дуй дальше. Так-то, друг. Твой отец-то чем занимается?
— В казначействе служит.
— Чиновник, значит? Его, небось, тоже начальство гнет, не хуже, чем тебя Швабра. А? Отец твой, небось, тоже набок и в воду?
— Отец пить стал, — печально сказал Самоха.
— Ну вот. Что ты, что твой родитель — оба вы сдрейфили. Отец пьет, а ты не учишься. Никакого сопротивления в вас нету. Мягкотелые. Да… Ну, а теперь я тебе свои стихи прочитаю, а ты слушай внимательно?
Отец встал и, помахивая в такт рукой, стал читать стихи. Читал он спокойно, без выкриков, без театральных жестов. Стихи его, не совсем складные по форме, но простые, суровые и глубокие по содержанию, сильно взволновали Самоху.
— Эх, — восторженно сказал он, — совсем не так читаете, как наш Афиноген. Афиноген ножку выставит, глаза в потолок и начнет, и начнет… Как актер…
— То-то, — довольный похвалой, сказал отец. — Ты, может, и грамотнее моего пишешь, да со слезой. Слеза тебе всю музыку портит. А в общем, я вижу, ты парень хороший, брось только на козе кататься.
— Как — на козе? — удивился Самохин.
— А так. С козы слезь, а на коня сядь. Понял?
— Да теперь уже все равно, — грустно сказал Самохин. — Теперь мне уже товарищей не догнать, а на третий год в том же классе не оставляют. Знаю: исключат из гимназии.
— А что ж ты делать будешь? — покачала головой Володькина мать.
— В цирк он хочет, — осторожно сказал Володька.
Самохин вскочил:
— Брось! Это я так… Нарочно гимназистам врал. Не пойду я в цирк.
— Ко мне тогда приходи, — строго сказал отец. — В мастерские учеником определю. Тут, брат, всякую меланхолию как рукой снимет. Тут, брат, жизнь научит.
Самохин подумал и осторожно спросил:
— И на паровозах ездить научиться можно?
— Еще как будешь ездить, — засмеялся отец. — Ну, — сказал он, — идите, гуляйте.
Володька с Самохой оделись и вышли. Но гулять не хотелось. Сели у ворот на скамеечке.
— Слушай, — строго сказал Мухомор, — попробуй учиться. Я помогать буду. Вместе все уроки делать будем.
— Попробую, — мрачно ответил Самохин. — Завтра у нас какие предметы?
— Латинский, греческий, закон божий, древнецерковнославянский, гимнастика.
— Так… А ты Амоське верх не давай, — вдруг сердито сказал Самохин. — Он, Амоська, сегодня в церкви стоял в первом ряду и все крестился, крестился. Директор перекрестится, и Амоська сейчас же за ним. А учиться мне… Разве теперь догонишь класс? Вот математику люблю, и то… Да ну его к лешему, давай о чем-нибудь другом говорить…
Дома Самохин застал обычную картину. Мать кричала:
— Пьяница! Дочери надеть нечего, а он последние копейка пропивает.
— Ну-ну, ну… Ты… Ну-ну, ну… — бессвязно бормотал отец. — Надоели мне ваши причитания… Отдала бы Ольгу замуж, вот и все… Где мой галстук? Оленька! Подай галстук.
— Без приданого-то кто возьмет? — сердилась мать.
Оля, взрослая девушка, сказала со слезами:
— Спать бы лучше легли, папа. Каждое воскресенье одно и то же. Надоело уже.
— Это ты кому говоришь? Что за тон? А еще в гимназии училась…
— Училась, да по твоей милости не доучилась, — крикнула мать. — И Ваньку вон тоже не сегодня-завтра попросят.
— Ну-ну, ну-ну… Всегда во всем я виноват. Сама детей распустила, сама избаловала их. Ванька, ищи галстук!
— Сами ищите, если надрызгались, — отрезал Самохин. — Мне уроки учить пора.
— Как? Как? — заорал отец. — Ах ты, мерзавец! Где ремень? Я тебя выучу вежливости…
— Папа! Не надо! — заплакала маленькая Верунька.
— «Не надо»? А на отца орать надо? Эх, вы…
Перерыв все в комоде, отец продолжал искать галстук. Искал и мурлыкал под нос: «Выхожу один я на дорогу…»
— Чего ищете, когда он у вас на плече висит? Ослепли? — с досадой сказал Самохин. — Никогда дома тишины нет.
Отец снял с плеча галстук, повертел его в руках и ответил ворчливо:
— Шел бы в монастырь тишину искать. Покой ему надо… Я всю жизнь тишину искал… Нету никакой тишины и не бывает. Враки все это.
— Олька! — крикнула из кухни мать. — Опять проворонила! Опять молоко подгорело! Пропасти на вас нет.
— Да вы же сами у плиты стояли, — ответила Оля, — не придирайтесь, пожалуйста!
— Замолчи! Изверги… Извели вы меня совсем. Ванька, принеси щепок!
— Ну вас. Мне заниматься надо, — сказал Самохин. — Что, в самом деле, учиться не даете!
— Жрать, небось, будешь, а щепок принесть не можешь! Свинья, — отозвался из комнаты отец. — Тишину тебе, подлецу, надо. Подумаешь, какой князь сиятельный!
Самохин притворил дверь, сел за латинский и стал заниматься. Но сосредоточиться уже не мог. Из кухни то и дело доносились сердитые оклики матери, плач Веруньки, а из спальной — монотонное пение отца:
Уж не жду от жизни ничего я…
Самохин захлопнул книгу, буркнул:
— Черти! Житья нет, право…
Пошел на кухню.
— Мама!
— Тебя еще тут не хватает. Чего?
— Меня… из гимназии скоро исключат.
— Как?
— Исключат, говорю.
Мать поставила на скамью миску с голубцами, обтерла об фартук руки и растерянно посмотрела на сына.
— Федя! Федор! Иди сюда! — тревожно позвала она.
Вошел отец. Мать сказала:
— Вот, любуйся.
— Что еще? Опять какое-нибудь безобразие?
— Исключают… — заплакала мать.
Отец высоко поднял брови:
— Так… Достукался, паршивец…
И вдруг зловеще:
— Иди сюда.
— Не пойду, — сказал Самохин, — еще не исключили… Я только маму предупредил, что исключить могут.
— За что?
— За отметки…
— «За отметки»! — передразнил отец. — Лодырь! Лентяй! Сапоги сниму. Выпорю, как Сидорову козу. Заставлю учиться. Иди сюда.
— Не пойду.
Отец схватил кухонное полотенце и скрутил его жгутом:
— Не пойдешь?
Но Самохин шмыгнул в дверь и выбежал вон из кухни.
— Вос-пи-та-ла! — зло проворчал отец.
— Вос-пи-тал! — тем же тоном ответила мать. — Иди, целуйся теперь с ним.
Стояли друг против друга, полны упрека.
— Эх! — сказал отец. — Покоя нет с вами.
Мать отвернулась, вытирая глаза фартуком.
Коля Амосов обедал плохо. Пропал аппетит. Он неверно решил задачу, да еще и по географии срезался. А у Мухомора — ни одной четверки, все круглые пятерки. Кончается учебный год… Все время был первым учеником, и вдруг — на тебе. И репетитор был, и Афиноген Егорович покровительствовал, а, вышло черт знает что.
— Да не лезь ты со своими котлетами! — набросился он на Варю. — Убирайся вон, идиотка!
— Коля! Коля! — строго сказала мать.
— Да, — вскочил Коля и топнул ногой. — Вечно мне не везет.
— Успокойся. Вредно так волноваться.
— Я хочу, обязательно хочу быть первым в классе! Какой-то рыжий ножку мне подставляет. Его отец машинист. Смазчик! Грузчик!
Вошел папа.
— Охота тебе! — сказал он. — Я поговорю с Афиногеном Егоровичем. Кстати, он будет сегодня у нас. Уладим все. Смотри, у тебя от слез уже нос распух.
— Распухнешь, — капризно отбросив вилку, сказал Амосов. — Если бы еще Нифонтов или Бух, а то рыжий какой-то. Принесло его среди года в наш класс. Его только и не хватало!
Вечером пришел Швабра. Колин папа пригласил его в кабинет. Там они долго беседовали.
Коля сидел в гостиной, долбил с новым репетитором географию. (После истории с Лиховым Лебедеву в репетиторстве отказали). Долбил и посматривал с ожиданием на дверь.