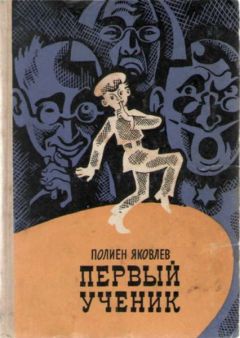— Нет, мамочка, я уже не балуюсь, — ответил Самоха и вдруг, взяв решительно узелок, быстро ушел из дома.
Раза два по дороге он оглянулся, посмотрел на знакомые и родные окна и, махнув рукой, ускорил шаги.
В аптеке весь день был рассеян и только под вечер вдруг оживился. Задел его за живое лопоухий.
— Ты, Ваня, — сказал он. — не фармацевт, а так — настоящее недоразумение. Тебе не в аптеке служить, а на базаре торговать квасом.
— Это почему же? — спросил Самоха, и глаза его вдруг заблестели лукаво.
— А потому, что ты балда, — ответил лопоухий. — Сиволапый ты. Ничего не умеешь и топчешься, как носорог.
— Скажите, — серьезно спросил Самоха, — если встретятся носорог и дурак… Кто кого скорей придавит? Вот, скажем, я носорог, а вы, предположим, дурак. Вот мы, для примера, встретились. Так?
— Пошел вон! — вышел из себя лопоухий. — Ты с кем разговариваешь, остолоп?
— Если дурак носорогу кричит, так, вы думаете, носорог молчит? — не унимался Самоха. — Носорог наклоняет рог, и дурак от него бежит без ног. Вот как бывает. Поняли?
И, не ожидая ответа, Самоха ушел в свою ступкомойку.
Лопоухий не утерпел и выбежал за ним.
— Ты уже забыл, — спросил он, — как я однажды тебя отдубасил? Еще захотелось?
Самоха взял в руки пестик от самой большой ступки и спокойно посмотрел на врага.
— Это у меня в руках носорожий рог, — засмеялся он. — Не угодно ли попробовать?
И глаза его так сверкнули, что лопоухий вдруг сбавил тон.
— Но-но, — сказал он, — положи пестик. Что за глупости?
— То-то, — засмеялся Самоха, — не надо дураку раздражать носорога.
— Идиот! — только и мог выговорить лопоухий и сейчас же ушел в аптеку.
Через некоторое время Самоху позвал Карл Францевич.
— Если ты будешь дерзить… — начал было он, но Самоха перебил его и сказал:
— Уже скоро не буду. Честное слово, завтра с утра звука от меня не услышите.
— Вот и хорошо, — обрадовался Карл Францевич. — Получи-ка жалование.
Получив восемь рублей, Самоха спрятал деньги в, карман и обратился к Карлу Францевичу с просьбой остаться ночевать в аптеке.
— Но ведь сегодня Георгий Саввич дежурный, — сказал тот, указывая на лопоухого.
— Ничего, я тоже останусь. Я хочу сегодня вечером помыть всю-всю посуду.
— Оставайся, если желаешь, — ответил ему Карл Францевич. — Это хорошо, что ты прилежный.
Вечером, когда Карл Францевич ушел, а лопоухий прикорнул в дежурке, Самоха вынес из ступкомойки свою небольшую корзиночку, поставил ее в сенях и вернулся.
— Ну, — сказал он, — прощай, милая моя аптечка, чтоб тебе ни дна ни покрышки…
Затем он подошел к пюпитру, за которым обычно принимали от посетителей рецепты, и написал на четвертушке бумаги:
«Карл Францевич! Я обещал, что утром моего голоса в аптеке не будет слышно. Я не обманул вас. Кстати, сообщаю, что вашего голоса я тоже больше не услышу. Я этому очень рад. Вы меня всегда обижали и заставляли работать сверх сил. Вы все боялись, как бы я вас не обокрал. Я не вор. А вот вы вместо одного лекарства наболтаете в пузырек другого и обманываете больных, а в хину тоже что-то подмешиваете. Вы хотели и меня этому научить, а я не хочу. Вот вам и все. Если к вам зайдет папа, вы на него не обижайтесь, он ни при чем, он не знает, что я уезжаю. Ключ от двери, через которую я уйду, найдете на подоконнике, я его брошу туда через форточку. Ступки и все прочее оставляю чистыми. Не подумайте, что я унес кусок мыла, он упал за умывальник. Я бы мог умывальник отодвинуть и мыло найти, но там спит ваш лопоухий. Мне его по некоторым причинам будить нельзя…
И. Самохин».
Перечитав письмо, Самоха оставил его на пюпитре и, взяв бутыль с касторкой, осторожно вошел в комнату, где спал лопоухий. Его новенькие ботинки стояли тут же возле кровати.
«Прощай, мой аптечный Амосик, — сказал про себя Самоха и до краев наполнил ботинки касторкой. — Ничего, не обижайся, от касторки кожа становится только мягче», — мысленно утешил он врага.
Возвратясь в аптеку, Самоха взял шапку и пошел в сени. Там в темноте он нашел корзиночку и, тихо отворив дверь, переступил порог. На дворе уже было темно. Замкнув дверь на ключ, он бросил его в форточку и побежал к воротам.
Через полчаса конка доставила его на вокзал…
* * *
Прошло пять лет.
Стояла осень.
Дул сильный ветер и трепал во все стороны красный флаг. Его полотнище то билось о древко, то разворачивалось во всю ширь.
Наступал вечер. Над заводом пылал закат.
Тысячи рабочих с напряженным вниманием слушали молодого оратора.
— Товарищи! — звучал над толпой его свежий звонкий голос. — Товарищи, будем твердо стоять, как один!
Оратор скинул с головы шапку, и копна рыжих, как солнечный закат, волос заколыхалась под ветром. А когда он закончил свою короткую и яркую, как огонь, речь, по всей заводской площади понеслось ураганом:
— Долой царя! Долой самодержавие!
Самоха в лоснящейся рабочей куртке стоял недалеко от оратора и не спускал с него своих влюбленных глаз.
«Так вот ты какой, рыженький мой Мухомор», — думал он и уже твердо знал, что за ним он пойдет до конца.
А ветер шумел и гудел в проводах, густою сетью опутавших большой завод.
Вдруг кто-то крикнул:
— Драгуны!
И все повернулись в сторону широкой улицы.
К заводу на рысях шел эскадрон. Впереди него, сжав крепко в руках стек с серебряной ручкой, ехал молодой корнет Николай Амосов…
Самоха наклонился и, не спуская с корнета глаз, схватил с мостовой булыжник…
Тяжести из железа в виде цепей, колец, полос и пр., которые кающиеся носили на теле.
Латинское слово. По-русски — слон.
Латинское слово. По-русски — осел.
Надгробная надпись в стихах или прозой.
Человек предполагает, бог располагает.
С богом!
Фараонами рабочие дразнили царских полицейских.