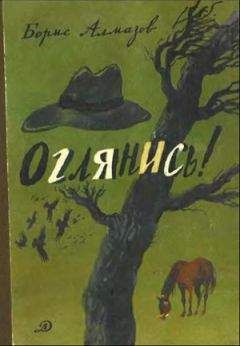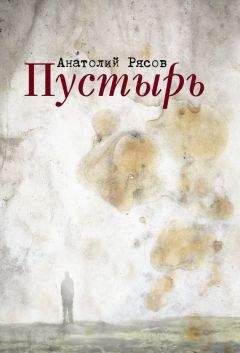— Что ж ты не волновался, когда меня били? — не утерпел мальчишка.
— Тебя не били! — засмеялся отец. — Тебя поучили немножко. Разве так бьют! Вот меня в детстве били так били! Сознание несколько раз терял. А тебе так, объяснили маленечко, чтобы не выпендривался. Чтобы старших уважал… Тем более они тебе добра желают!
Они нагнали всю группу. Пристроились в хвост.
— Ты не злись, — шептал отец примирительно. — Сам благодарить ещё будешь, как вырастешь, тут себя на всю жизнь обеспечить можно. Ты что, я стал бы из-за копеек рисковать?
Он схватил Лёшку за плечи и зашептал ему в самое ухо:
— А художник твой, разве он из-за копеек с этими урками связался бы? Ни за что! Он — человек международного класса, а это уголовники отпетые! И мне-то с ними страшновато, а ты ещё ерепенишься!
Часа через два они вышли к крепости.
— Ого! — сказал Сява, даже на него она произвела впечатление. — Лихо!
Они сорвали ворота и вошли внутрь.
— Начинайте с крайней избы. Шмонать культурно, чтобы всё ценное взять, — командовал Сява. — Ты как? — спросил он Вадима. — Показывать будешь, что брать?
— Достаньте всё! Потом отберём ценное, — сказал художник, снимая сапоги и крепкими белыми руками выжимая портянку.
Пришедшие рванулись по избам. Вадим и Лёшка остались одни.
Душный полдень стоял над болотом. Солнце жарило вовсю. Хмелела голова от дурмана, болиголова и других неведомых Лёшке трав, сухим деревом пахла мостовая, плесенью и гнилью тянуло из проломов в стене.
Вадим достал сигарету, закурил.
— А помнишь, — сказал он вдруг, — какие были светлячки?!
Кусков вздрогнул от неожиданности.
«Зачем он мне это сказал?» Он посмотрел на художника. Но в памяти уже явилась та ночь, когда они стояли на крыльце и следили за голубыми каплями света, что искрились на глянцевых прохладных листьях яблонь, в небе, медленно плыли между деревьями.
«Зачем он это вспомнил?» Вадим растянулся на тёплых досках мостовой и курил, глядя в небо. Кусков совсем растерялся.
«Может, и действительно, — подумал он, — Вадим взял меня сюда, чтобы убрать свидетеля, но ведь потом он стал другим! Сначала он боялся, что я подсмотрел про плёнку, но ведь потом была и беседа в доме деда Клавдия, и переселение, и эти светлячки».
Лёшка вспомнил, как Вадим комкал и рвал этюды и как радовался там, в избушке, когда нашёл приём… И вчера он сказал: «Можешь смеяться: это моя первая выставка, никогда не думал, что буду так волноваться!»
«Зачем он это сказал?» — ломал голову Лёшка, но Вадим курил, смотрел в небо и молчал.
— Ну-ка покажись! — сказал он, приподымаясь и поворачиваясь к Лёшке. — Красив! Ну да ничего, — сказал он, стиснув зубы, — это ещё только конец первого раунда! Отольются им и твои синяки, и ракетница… Ты думаешь, родился тот человек, который мне приказывать может?
Кусков молчал.
— А Сява — ишак! — зло засмеялся Вадим. — Он даже не представляет, насколько он ишак!
Он встал, потянулся, разминая затёкшую от ходьбы по болотному матрацу спину.
— Они вынесут то, что я укажу. Реставрировать буду я! И что кесарю, а что слесарю — решать буду я. Сява у меня будет на коленях ползать… Я его бить буду не кулаком, но так, что он даже плакать будет бояться!
— Ну и бейте на здоровье! — пробурчал Лёшка. — Я-то тут при чём. Думали — я всё разболтаю… А я ничего не видел! Зря старались! Не видел!
Он хотел сказать ещё про то, что зря его обманывали, зря Вадим пытался поссорить его с Петькой, да и вообще, даже если бы он всё знал, то не разболтал бы, не из таких!
«Я вас всех презираю!» — хотел сказать он. Но Вадим не дал ему говорить.
— Ты мне напомнил моё детство, — сказал он задумчиво. — Я и раньше знал, что ты ничего не разболтаешь… А вообще, мне показалось, что ты не лишён способностей. Во всяком случае, квалифицированного реставратора я из тебя сделаю. Тем более что мне нужен будет помощник!
Он вдруг неожиданно, так что Лёшка ничего не успел сообразить, взъерошил ему волосы.
— И не дай тебе бог узнать, что такое одиночество! — Художник вздохнул и, засунув руки в карманы, пошёл по улице.
«Быть реставратором! Быть рядом с Вадимом», — думал Кусков. Если бы вчера художник сказал ему такое, Лёшка был бы счастливым человеком, но сейчас…
— Я вам не верю! — крикнул он.
Вадим оглянулся и спокойно ответил:
— Ты неглупый парень. Посуди сам, зачем мне тебя обманывать? Ты бы умылся, вид у тебя…
Лёшка вышел за ворота крепости, нашёл лужу и, став на колени, долго отмывал кровь на лице и на рубашке. Умывшись, он осмотрелся. Когда идёшь по болоту и почва ходит под тобою, как пружинный матрац, само собой получается, что смотришь только под ноги, по сторонам смотреть некогда. Сейчас перед Лёшкой тянулось рыжее с белыми подпалинами длинноволокнистого мха, с озерцами воды и кривыми деревьями болото. Никаких ориентиров. Словно в открытом море, не видно берегов, а только застывшие как волны кочки. Рыжее море мха.
«В самом деле, — думал Лёшка. — Зачем Вадиму меня обманывать?»
Он не знал, радоваться ему или огорчаться.
«Стану учеником реставратора. Заработаю кучу денег. Отец же сказал, что тут можно себя на всю жизнь обеспечить!»
И снова мечта о том, как он приедет в школу на машине, предстала перед ним во всей красе.
«Это теперь запросто! — подумал Лёшка. — Отец же говорит, что тут тысячами пахнет».
Об этом было приятно думать, и даже вроде бы синяки болели меньше.
«От трудов праведных не наживёшь палат каменных!» — вдруг словно током ударило мальчишку, когда он вспомнил пословицу, которую тогда, в начале знакомства, сказал Вадим.
«Деньги-то будут ворованные!» Кусков не помнил, как вернулся в крепость, как сел на мостовую.
«Какие ворованные! — успокаивал он сам себя. — Какое же это воровство? Хозяев-то здесь нет. Ведь это никому не принадлежит. Те, что здесь жили, давно погибли. Это всё равно будто мы клад нашли!»
«Мы». Лёшке стало скверно оттого, что о себе он подумал заодно с отцом, и Сявой, и всеми другими бандитами. В том, что они настоящие бандиты, он не сомневался, да и мудрено было сомневаться, если даже отец их боялся.
Где-то он слышал, что и клады положено сдавать государству и только часть суммы принадлежит нашедшему.
«Но ведь здесь чёрные доски! Их ещё отреставрировать нужно! Тут одна реставрация миллион стоит!»
Кусков прошёлся по улице, остановился около осыпавшегося, словно кружевного, моста. И, глядя на него, вспомнил резные наличники, те, что дед Клава снимал со своей избы. Он вспомнил гончара, который ругался и говорил, что его горшки никому не нужны. Вспомнил заикастого директора мастерских…
«Это искусство! — сказал он себе. — Искусство принадлежит тому, кто его понимать может! Вот оно и должно принадлежать Вадиму и мне, а Сява — это только ишак! Я ещё тоже в искусстве плохо разбираюсь, но Вадим меня научит. И мы будем с ним вдвоём. Мы вдвоём с ним всем покажем». И Кусков мстительно подумал, что никогда не вернётся к матери. И что все эти Иваны Иванычи, Сявы и даже отец — ишаки, в этом их предназначение на земле, а они-то с Вадимом совсем другие.
Лёшка прошёлся по мостовой. Вадим лежал прямо на досках, подставив горячему солнцу лицо. Здесь можно было снять накомарник: ветерок отгонял комаров.
Мужчины шуровали в крайней избе. Стучали сапогами, и даже здесь, на улице, было слышно, как стонут старые половицы.
Лёшка пошёл дальше в глубь улицы. Смола сочилась по стволам сосен, в траве зудел запутавшийся овод. И вдруг кто-то шумно вздохнул.
Кусков вздрогнул, осторожно заглянул за угол избы и увидел коня. Это был Орлик. Он стоял среди истоптанного копытами двора, понурив голову.
— Орлик! Орлик! — позвал Кусков.
Конь поднял голову и насторожил уши.
Он шевелил ноздрями, словно ощупывал воздух, отыскивая нужную ему струю запаха.
— Орлик! — повторил Лёшка.
Конь повернулся и тяжело двинулся к мальчишке, но было что-то странное в его шаге. Он двигался медленно. Осторожно ставил старые, растрескавшиеся копыта, словно ощупывал землю.
— Орлик! — звал Лёшка.
Старый конь сделал ещё один шаг и вдруг наткнулся мордой на угол избы.
— Что с тобой? Что с тобой? — Лёшка стал гладить его по провалившейся спине, по бокам, где рёбра, казалось, были готовы разорвать шкуру. — Что с тобой, мой хороший?
Орлик шумно повёл боками и положил тяжёлую старую голову на плечо мальчишке.
Прямо перед собой Кусков увидел мутный, словно подёрнутый молочной плёнкой глаз.
Кусков взмахнул перед ним рукой, но конь не моргнул, не шарахнулся, не убрал голову. Две мокрые тёмные полосы тянулись от глаз коня по седине, на них то и дело садились мелкие мошки.
Кусков обхватил коня за шею и прижался к нему лицом.