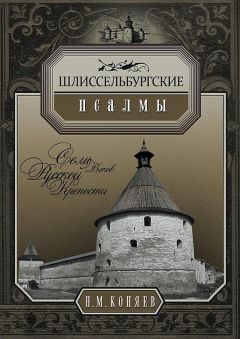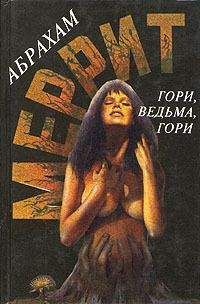Лошади идут рысью прямо с места. Всадники, как влитые, сидят в седле. Нина по-мужски, верхом, на своем Карабахе.
Селим осаживает коня и кричит Селтонет:
— Я не сержусь на тебя, Селта, нет!
* * *
Какая пытка! Больше месяца Даня переносит ее. Теперь ей яснее чем когда-либо, что ее обманули. Эта голубая комната-коробка, насыщенная одуряющим пряным ароматом, с дымком курильниц, туманящим мозг, эти ежедневные прогулки в горы, под густой чадрою, под наблюдением Гассана и его сыновей — все это только теперь начинает она понимать.
Даже в аул ее не пускают, оберегая, как пленницу. Она не смеет никуда выйти без разрешения Леилы-Фатьмы. Но хуже всего эти непонятные чары.
Раза три-четыре в неделю наезжают в усадьбу дочери наиба, важные, знатные гости. Тогда Леила-Фатьма наряжает ее в тот же белый, затканный серебром балахон, крепко затягивает на голове ее унизанную жемчугом повязку с покрывалом, насильно затемняет ее сознание каким-то составом изагадочными чарами наводит на нее сон, подчиняя страшной, неведомой, давящей, как кошмар, чужой воле. Кто-то точно говорит в такие минуты Дане: «Делай это!», «Поступай так!» И она подчиняется, хотя душа ее борется и тело тоже от нестерпимой усталости и муки. На этом теле есть следы ран. Она чувствует порою острую боль кинжала, вонзающегося в мягкую часть руки. Но ни крикнуть, ни произнести слова у нее нет силы. Или она танцует, танцует почти над землею, едва касаясь ее ногами, в каком-то странном полусне, при свете красных и желтых огней, которые поддерживает Леила-Фатьма. Иногда она поет заунывные восточные песни, которых не слыхала и не знала раньше. Иногда видит странные, таинственные картины из прошлого и будущего посетителей-гостей и говорит их им, склоняясь над гладкой поверхностью воды в кувшине или над пеплом, уложенным мягкою горкою в жерле бухара.
И при этом какие муки, какие муки она переживает!
По вечерам, когда нет гостей в доме, Леила-Фатьма ведет ее на утес. Гассан несет арфу за ними. И тут, стоя над бездной, разверзающейся у ее ног, Даня играет. Ее игру слышно далеко вокруг. Но никто не смеет подойти близко. Никто не видит ее хрупкой фигурки, укутанной с головы до ног чадрой. Ночь и горы ревниво берегут их тайны.
Горцы боятся, как проклятого места, усадьбы дочери наиба. Говорят, там поселился шайтан. Эта музыка не восхищает, а скорее пугает бестудцев.
Леила-Фатьма колдунья. Люди чуждаются ее.
Даня играет в присутствии Гассана и своей новой владычицы. А подальше, у костра, три дидайца, еще летом нанятые Леилой, стерегут баранов и коней. Их глаза хищно сверкают из-под лохматых папах, сдвинутых на самые брови, и страшно слышать их отрывистый говор.
Даня вздрагивает каждый раз, когда встречается взором со старшим из них, Мамедом. Этот по виду настоящий душман.
— Не бойся их, роза, не бойся! Это добрые люди — слуги мои, — успокаивает ее в такие минуты Леила-Фатьма, подмечая ее испуганный взгляд.
* * *
Целую неделю шли дожди. Горные потоки, эти бесконечные Койсу, получившие свое прозвище по имени мест, пересекаемых ими, расширились, надулись, потемнели.
С клекотом носились седые кавказские орлы. Полысела и сжалась как-то листва на чинарах. Летние цветы уныло умерли в котловинах. Отцветали дикие розы, и веяло тлением от их предсмертных улыбок.
Леила-Фатьма ходила всю эту неделю радостная, точно в праздник. Даня, напротив, осунулась, побледнела. Приходилось работать без устали последние дни. Все чаще и чаще наезжали посетители. Все чаще и чаще проделывала Леила-Фатьма над ней свои волшебства. Все реже и реже возникал между ними разговор о поездке по Кавказу, по Персии, по России, в Петербург.
И прилив отчаяния все сильнее и сильнее овладевал Даней. Все ближе, роднее и заманчивее начинало казаться недавно пережитое прошлое, все ближе и дороже представлялось милое, ею самою покинутое, Джаваховское гнездо.
Сначала бессознательно, робко толкнулась эта мысль ей в голову, потом ярче и определеннее осветила она усталый, отуманенный мозг. Желанной и прекрасной показалась бы малейшая возможность вернуться. Но — увы! Она понимала, что Леила-Фатьма не так легко согласится выпустить ее из своих цепких рук.
* * *
Снова сумрачный, слезливый день начинающейся осени. Снова плачут под дымкой тумана горы. Из бездны, как серые духи, ползут влажные облака. Тропинки в ущельях размыло.
Окно в сакле раскрыто настежь. Отдернут ковер от дверей. На подушках, брошенных на ковер, прикрытая буркой, лежит Даня.
Усталостью скованы ее члены. Все тело ноет и болит. Вчера она опять, подчиненная чужой воле, развлекала Леилиных гостей. О, как измучилась она! Как болит ее голова, грудь! Еще один такой вечер, и она, кажется, сойдет с ума. Нет! Нынче же надо прекратить все это. Нынче же скажет она Леиле-Фатьме: «Довольно! Время не ждет. Или ехать концертировать с арфой, или пусть отпустит ее обратно домой».
Домой!
Это слово выделилось случайно из вихря Даниных мыслей. А между тем как правдиво оно! Если и любили где-либо ее, Даню, и жалели, и ласкали ее, так это там, дома, в гнезде.
Гема, тетя Люда, Маруся, Сандро и даже «та», непонятная ей, энергичная суровая девушка, и та по-своему заботилась о ней.
Она, может быть, была права. Надо много и долго учиться, чтобы иметь возможность царить над людьми.
То, что заставляет проделывать ее Леила-Фатьма, разве это искусство? Разве это даст славу Дане? Разве может дать славу? Эта мысль так глубоко и цепко охватывает девочку, что она почти не слышит приблизившихся к ней шагов.
— О чем задумалась, моя роза? О чем, лазоревый цветик не наших полей?
Опять она, эта старуха, отравляющая Дане душу и мозг.
Острый, небывалый еще прилив злобы охватывает девочку. Вся дрожа, вскакивает она с подушки, вытягивается во весь рост.
— Что тебе надо от меня? Зачем ты пришла сюда? Зачем мучишь снова?
— Мучу тебя? — ломаный русский язык татарки едва умеет произносить слова. — Что ты, звезда души моей! Богатой, знатной хочет сделать тебя Леила-Фатьма. А ты — «мучишь»! Что ты! Что ты, бирюза моя!
Эта льстивая речь еще больше разжигает сердце Дани. Она еле владеет собой.
— Когда ты увезешь меня отсюда, из этой норы?!
— Скоро, яхонтовая, скоро…
Глаза дочери наиба прыгают, точно горящие светляки. Лукава и пронырлива ее улыбка.
Эта улыбка переполняет чашу терпения Дани.
— Ты лжешь! — вспыхивает она и топает ногою. — Ты лжешь, старуха! Ты никуда не повезешь меня!
Что-то новое пробуждается в лице Леилы. Остатки прежнего величия озаряют его. Теперь уже сама она вспыхивает в свою очередь, не меньше Дани.
— Ты смеешь кричать на дочь наиба! — грозно срываются с ее губ суровые слова.
— Но дочь наиба лжет, как последняя служанка!
Эта фраза вылетает помимо воли из побелевших от гнева губ Дани.
Как удар кнута падает она на Леилу-Фатьму.
— Жалкая девчонка! — кричит она. — Жалкая, слабая русская девчонка! Ни капли мудрости в твоей голове! Разве можешь ты получить славу? Леила-Фатьма может, а не ты. Но Леила-Фатьма не хочет заморить насмерть такую слабую курицу, как ты. Довольно ты для нее послужила. Послужи новому повелителю и мужу. Курбану-аге ты приглянулась, глупая овечка. В жены берет тебя Курбан-ага. Богатой будешь. Княгиней будешь. Бери, глупая, свое счастье. Обеими руками бери. Стать женою знатного бея суждено тебе на роду, глупая, нищая девчонка.
В первую минуту Даня плохо понимает сказанное. Так дико, так невероятно нелепо оно. Ей, почти девочке, едва достигшей шестнадцати лет, стать женою этого важного, напыщенного дикого татарина из Кабарды, которого она мельком видела из-за своей занавески, в вечер его посещения, когда играла на арфе для него?!
Так вот оно что. Вот куда гнет Леила-Фатьма. За богатый калым продает ее, Даню, русскую, христианскую девушку, в жены мусульманскому бею. Так вот она какова, эта старуха, обещавшая наивной девушке славу.
Гнев, презрение вспыхивают в оскорбленной душе Дани. Она делает шаг к Леиле-Фатьме, порывисто закидывает голову и кричит ей в самое лицо:
— Никогда! Слышишь: никогда в мире! Скорей умру, нежели это! Скорей умру!
Потом порывистым движением оглядывается на дверь.
Что если броситься в аул Бестуди? Бежать к его старшине, наибу, к мулле, к властям селения, сказать все, просить защиты? Открыть козни Леилы-Фатьмы, упросить вернуть ее, Даню, в Гори, домой!
В ауле знают Нину. Ее родители оттуда. Память о деде ее, Хаджи-Магомете, величавом старике, не умерла там и поныне. Неужели не заступятся, не спасут?
Мысль, вихри мыслей кружатся в голове Дани.
Да! Да! Конечно! Так! Так! Рассуждать нет ни времени, ни силы. Леила-Фатьма стоит перед ней, торжествующая, злая, безобразная, настоящая ведьма.