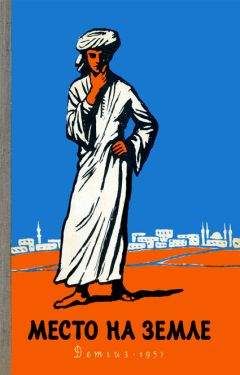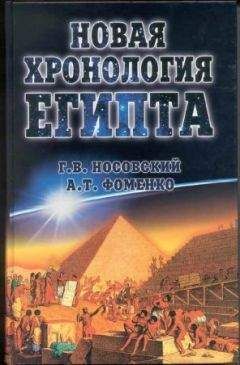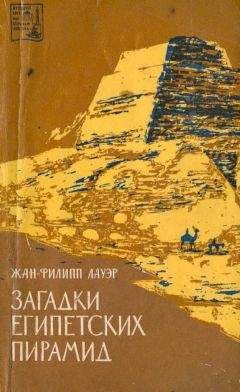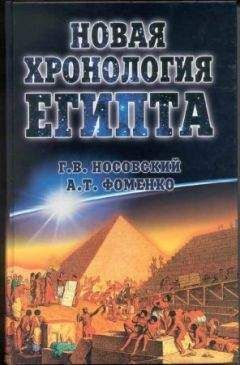Я уже стал прикидывать, сколько мне еще идти, какое вознаграждение я получу и как его истрачу.
На тридцать пиастров я сытно пообедаю в харчевне, а семьдесят пиастров — на новую обувь. Но я еще не получил этого фунта. Впрочем, что такое один фунт для жителей этого богатого квартала? И я прибавил себе еще фунт, я удвоил вознаграждение, потом утроил… Наконец, устав от своих расчетов, я убедился, что, как бы ни было велико вознаграждение за собаку, его все равно не хватит, чтобы покрыть все мои бесконечные нужды. А вдруг я получу не три, не четыре фунта, а… Да, я нуждался в самоутешении.
Но только мы миновали второй квартал, как вдруг пес вырвался из моих рук и стремглав бросился вперед. Я хотел остановить его, но тщетно. Мне оставалось только гнаться за ним, а он бежал, едва касаясь земли, по направлению к своей вилле. Вот он перемахнул через забор и скрылся в саду. Затем я увидел, как он важно и степенно поднимается по мраморной лестнице в дом…
Я ведь говорил, что я не гордый. Эх! Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Нет, я совсем не гордый, но не мог же я унизиться настолько, чтобы начать попрошайничать. А ведь если бы я тогда начал добиваться своего вознаграждения, меня сочли бы именно за нищего, за попрошайку. Но не в этом даже дело. Разве это вознаграждение поправило бы мои дела? Через день или два я снова был бы голодным и бездомным. Износилась бы обувь, изорвалась одежда, и я снова превратился бы в того, кто я есть — в гонимого бродягу.
Перевод Ю. Султанова
Это случилось пять лет тому назад. Я только что окончил институт и работал учителем рисования в деревенской школе. Деревня находилась в «тридцати пиастрах»[43] от города.
Школа, расположенная недалеко от мельницы, представляла собой просторное здание, окруженное старым, засохшим садом. Перед школой протекал оросительный канал, разделявший деревню на две части. По утрам в зимние солнечные дни мы, учителя, часто усаживались возле школьных дверей и подолгу смотрели на золотой диск солнца, отраженный в зеленой воде канала, на деревенских женщин, волочивших длинные свои подолы по земле — среди пыли, рисовой шелухи и навоза. И пока женщины не скрывались за поворотом у водокачки, видно было, как чинно и мерно покачиваются кувшины на их головах.
А когда начинались ночные дожди, улицы деревни сразу превращались в реки грязи, по которым не пройти, не проехать. Тогда директор школы считал себя лично ответственным за наше благополучное прибытие в класс, и вот каждое утро мы стояли возле своих домов в ожидании деревянной тележки, запряженной пожилым осликом. Мы усаживались на циновку, постеленную на дно тележки, и вместе с ней, покачиваясь из стороны в сторону, проезжали по узким улицам деревни. Завидев нас, каждый житель деревни останавливался и прикладывал правую ладонь к голове в знак приветствия.
Когда наша тележка, постоянно за что-нибудь задевая, переправлялась вброд через потоки грязи, компания учителей представляла собой интересное зрелище, и деревенские ребятишки толпой следовали за нами, чтобы поглазеть на господ. А иногда нашему немолодому ослику приходило в голову «отправить свои естественные потребности», и тогда он останавливался именно возле деревенского базара, перед большой толпой народа, относясь при этом без всякого уважения к чувствам учителей, восседавших в тележке, и совершенно не считаясь со звонком, который уже час тому назад возвестил о начале занятий.
Все эти обычаи казались мне весьма странными, а порой приводили меня в изумление. Я долго не мог понять, почему мои коллеги-учителя так спокойно относятся к самым удивительным явлениям. А понять было нетрудно: такова их каждодневная жизнь, и картины, вроде той, что я описал, были для них настолько обыденными, что вызывали у них такую же спокойную реакцию, какую вызывает сон, еда или выпивка в кофейной дервиша аль-Гамрави, которая, кстати сказать, закрывалась не позже восьми часов вечера.
После зимних каникул директор школы, признав мои способности, добавил в мое расписание четвертый класс, где я должен был вести рисование и уроки трудовых навыков. Сказать по правде, я почувствовал какое-то радостное опьянение, когда узнал о решении директора. «Однако, — решил я, — здесь нужно быть настороже. Ведь я привык к ребятам младших классов. Я сумел обуздать их стремление к шуму и безобразиям. Но четвертый класс! Ребята здесь отличаются и возрастом и характером…»
Однако ученики встретили меня хорошо. Мне кажется, они почувствовали мое к ним отношение или, может быть, они уже слышали обо мне от учеников третьего класса…
Но не прошло и недели, как случилась беда. В классе появился ученик, который не был в школе, когда я давал первые мои уроки. Он явился и сел за свою парту в последнем ряду около окна. Мальчик этот был высокого роста, толстый и, казалось, очень глупый. Судя по одежде, он принадлежал к одной из знатных семей деревни.
С первого же дня своего появления в классе через пять минут после начала урока этот мальчик постоянно просил у меня разрешения выйти. Он поднимал руку и говорил скрипучим голосом:
— Господин учитель! Господин учитель, разрешите выйти на минутку!
Я разрешал. Но, вернувшись в класс, он через несколько минут снова поднимал руку и просил разрешения выйти. Я удивлялся этим слишком частым просьбам, но склонен был допустить, что он болен, и продолжал вести урок.
Однажды, окинув взглядом класс, я вдруг увидел, что он, сидя около окна, целится из рогатки в сторону дерева, которое росло возле школы. Я был поражен и громко крикнул:
— Встань сейчас же! Эй ты, там, на последней парте!
Вздрогнув, мальчик вскочил и в замешательстве пытался спрятать рогатку в складках своей одежды. На его лице появилось выражение странной плаксивости. Он умоляюще произнес:
— Ей-богу, это не я, господин учитель!
В гневе я закричал:
— Как тебя зовут?
— Заки.
— Какой Заки?
— Ей-богу, это не я, господин учитель!
— Какой Заки, я тебя спрашиваю?
— Заки — сын Мухаммеда.
— Мухаммеда? Какого Мухаммеда?
— Ну, Мухаммеда, господин учитель.
— Какого Мухаммеда, я тебя спрашиваю?
— Мухаммеда аль-Бед.
— Бед?..
— Ей-богу, это не я, господин учитель! Это моего деда звали Бед!
В этот момент весь класс разразился громким смехом. Я закричал на ребят, требуя тишины, и направился к мальчику, чтобы отобрать у него рогатку. Он положил рогатку в парту, а сам сел сверху, чтобы я не смог открыть ее. Мое терпение лопнуло, и, оттолкнув его от парты, я открыл ее. В парте я нашел рогатку и… несколько убитых воробьев, ровно столько, сколько раз этот негодяй просился выйти. Я отчитывал мальчишку в течение всего часа, но он не проронил ни одной слезинки, хотя с лица не сходило выражение глупой плаксивости. Он все время бормотал:
— Ей-богу, это не я, господин учитель… Это моего деда звали Бед!
На следующий день он не пришел в школу.
Директор вызвал меня в свой кабинет и сообщил, что староста деревни очень разгневан на меня, что начальник деревенской полиции хочет отомстить мне, а брат начальника — отец этого мальчика жаждет поскорее меня увидеть, чтобы всадить в мою грудь пулю из своего ружья…
Вечером поезд увозил меня в город. Из окна вагона я бросил прощальный взгляд на школу, видневшуюся на краю деревни. Это был последний день моей педагогической деятельности.
Перевод Ю. Султанова
Проснувшись рано утром, я задал себе вопрос: удастся ли мне хоть сегодня написать новый рассказ? За последние две недели я ничего не написал, и от бесплодных умственных усилий нервы мои совершенно расстроились.
Я жил на окраине Каира, на улице Хазиндар, в третьесортной гостинице с претенциозным названием «Счастье». Первые лучи солнца уже проникли через щели ставней в мой номер и причудливо освещали ветхую мебель, похожую на обломки разбитого корабля, выброшенные волной на берег. Взор мой упал на тощую и старую диванную подушку, на которую были навалены книги, газеты и клочки исписанных бумаг, и я понял, какое место я занимаю на социальной лестнице: я должен писать новеллы, чтобы не умереть с голоду. Но, увы, когда я садился писать голодный, из-под моего пера обычно выходили худосочные рассказы, почти всегда отвергавшиеся редакторами.
Разделавшись с одним рассказом, я всегда тут же садился за другой. Иногда мне везло, и за удачный рассказ я получал три и даже пять египетских фунтов.
В тот день, выйдя, как обычно, из дому рано утром, я стал бесцельно бродить по улицам. И вдруг мне пришел на ум занимательный сюжет нового рассказа. Я тотчас поспешил в гостиницу, сел за стол, взял ручку, чтобы записать сюжет, пока я его не забыл. Но дома не оказалось ни клочка бумаги.