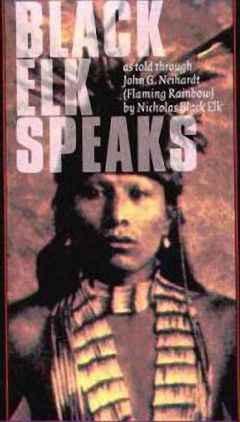Вокруг земли — Володя увидел это с голой скалы, на которую залез, чтобы оглядеться, — над краем тайги и синими контурами гор залегло плотное дымчатое марево, желтовато-серое. Тоже плохой знак! Там, за горизонтом, притаились зимние тучи, готовые перешагнуть Урал, затянуть его, залить водой, засыпать снегом, заковать в лед. Ждут они какого-то знака, и знак этот вот-вот подан будет.
Ждал и Володя этого знака. И вот дождался — к вечеру из-за лохматых уральских предгорий наползла на небо полосатая, от края до края, желто-серая пелена. Пелену эту, предвещавшую начало зимы, ждали давно, и сейчас на нее смотрели все: дед Мартемьян смотрел, стоя возле своей лодки на берегу Илыча, где он искал Володю; с тревогой смотрела на пелену Алевтина, сидя на их любимом обрыве над омутом; брат Иван смотрел на зловещую пелену из-под крыла вертолета на аэродроме в Троицко-Печорске, собираясь вылетать на поиски вопреки всем прогнозам.
Все смотрели на эту пелену в тоске, думая о потерянном мальчике. В том числе и начальник районного отделения милиции в Еремееве, и его подчиненные, и, конечно, все жители деревни, где бы они ни были: и старушки на завалинках, и мужики в тайге и на реке, и ребятишки… кроме одного только человека. Человек этот — вы знаете, о ком я говорю, — тоже смотрел на эту холодную небесную пелену, но он смотрел на нее с радостью, вспоминая свою встречу с Володей, о которой он никому не сказал…
Смотрел на эту пелену и Володя — как собирается в небе плохая погода. Один Володя еще знал о себе, что жив и хочет жить, что он борется. Все остальные уже думали, что умер Володя, даже дед Мартемьян об этом думал, сам не давая себе отчета. Ужас прокрадывался в его старое крепкое сердце… Поздно хватились Володи!
Дед ведь сидел в избушке на Илыче, не подозревая о том, что Володя вышел к нему; брат Иван думал на работе, что Володя с дедом… Поздно открылось это все, слишком поздно!
Поиски, конечно, организовали сразу, как только дед поднял тревогу. Милиция приехала. Всей деревней вышли на другой день в тайгу — в дождь и холод. Но никто не знал, в какую сторону мальчик пошел! И пошел ли он вообще куда-нибудь! Ребятишек обспрашивали: не купались ли они с Володей, не видел ли кто, что Володя тонул… Но никто ничего не знал, даже Алевтина. А Прокоп молчал, будто камень, и тоже — пьяный — ходил со всеми в тайгу: искал, молчал, путался у людей под ногами, думая о своем.
А тоскливая пелена в небе росла. И Володя, шагая по берегу Ичед-Ляги — все ближе к Илычу, тоже смотрел на затягивающую небо пелену. В середине неба — с севера на запад — тянулась особенно холодная полоса туч, прихватывая просвечивавшее солнце. На это сжатое тучами лимонное солнце можно теперь было спокойно смотреть — оно стало бледным, и корона его стала бледной, немощной, неправильной формы. Серая полоса туч поднималась все выше и выше — вставала на противоположных краях горизонта на цыпочки. Вот солнце опять брызнуло ослепительным лимонным сиянием и сразу потухло, погружаясь в другую, следовавшую за первой, еще более темную и густую, непроницаемую тучу.
Все это сулило одни неприятности: неуют, холод, а заблудившемуся в тайге человеку, если дунет после дождя морозом, и быструю смерть.
«Такая смерть в тайге — дело пустячное!» — подумал Володя, и когда он так подумал, то мысленно увидел безымянный скелет под камнем.
Скелет они видели вместе с Иваном во время полета над Долиной Смерти, в верховьях реки Хаби-Ю — на той стороне Урала, в Азии. Сидел скелет во мху, прислонившись спиной к огромному камню, как в кресле. Чистый, вымытый дождями белый скелет человека. На коленях у него лежал его собственный череп — скелет гадал на своем черепе: долго ли ему еще тут сидеть?
Иван несколько раз низко пролетел над этим гадальщиком, чтобы получше его разглядеть…
«Может, он и вправду гадает, — подумал Володя. — Хотя ему теперь долго сидеть, пока не развалится! А мне идти надо!»
«Странная какая человеческая жизнь! — думал Володя. — И моя жизнь, и дедушкина, и брата, и Алевтины — и всех-всех! Всех, кто живет и жить будет. И всех, кто умер. Собрать бы их всех вместе., сразу: всех, кто жили, живут и будут жить во вес века! Вот было бы народу — на всю Вселенную небось хватит! Нет, на всю не хватит, — покачал головой Володя. — Вселенная ведь бесконечна! А на Луну да на все планеты солнечные, пожалуй, хватит!»
В небе над Володей светила луна, и вокруг нее не было звезд, потому что она съедала их своим молочным светом, зато дальше бесчисленное количество звезд горело, и мерцало, и подмигивало Володе.
«Если бы парни всей земли…» — вспомнил Володя песню, которую часто слышал по дедушкиному транзистору. «Если бы все люди, все труженики, которые жили, и живут, и жить будут, — говорил как-то дед Мартемьян, — если бы они все сразу явились на землю и стали жить вместе и вечно, — может быть, было бы лучше! Кто знает! Одно было бы тогда хорошо: все стало бы ясным раз и навсегда! Все свои ошибки мы сумели бы обговорить и все свои достижения друг другу разобъяснили бы — и были бы счастливы! Раз и навсегда жили бы все одной счастливой семьей! Без всяких недоразумений! Так ли это? Ведь смотрите: почему разные неприятности, разные подлости среди людей бывают? Разные войны, и тюрьмы, и концлагеря? Потому что люди не успевают уму-разуму научиться, а те, что научились, — помирают. Только научатся мудрости и счастью, как приходит им время помирать. И уносят они свою мудрость в могилы. Не успевают с другими людьми, с теми, которые народились, этой мудростью поделиться. Ну кое-чем они, конечно, делятся: в книгах, которые оставляют после себя, в картинах, в обычаях… Но этого же ух как мало! Даже странно, что хоть кое-чему новые-то люди научиться успевают. Потому что книги рвутся, картины тускнеют, а то и вовсе сжигают их разные дураки, которые вновь нарождаются.
Даже странно, — говорит дед Мартемьян, — как это мы, например, хлеб еще умеем печь! Да вот эти штаны шить! Какие разучились! А сколько хорошего, умного люди позабыли, разучились делать! Сколько мудрости человеческой в пыль, в огонь, в дым превратилось! Приходим мы — миллиарды и миллиарды — на эту маленькую Землю, чтобы хоть малости сохранившейся здесь мудрости научиться, чтобы хоть чуточку разумного счастья попробовать, но и море разных мучений выпить, и опять уходим в никуда, чтоб уж никогда и ни с кем и нигде не встретиться… Очень это печально! И вместе с тем хорошо, что хоть это-то есть, хоть это короткое свидание с живущими и с теми, кто жил — в книгах, и даже с теми, кто придет — в мыслях…»
Помните, говорил я в предисловии, что в природе всегда все хорошо? А как же, скажете вы, все хорошо, если Володя от холода и голода погибает?.. Подождите, я вам сейчас все растолкую!
Конечно, в природе всегда все хорошо! Но когда хорошо в ней все для человека — вот в чем вопрос! Человек же не зверь и не рыба — не может он, па-пример, долго в ледяной воде плавать или по тайге бродить — погибнет он в тайге, если заблудится, если будет бродить, как зверь… Для человека в тайге тогда хорошо, когда он сыт, обут, одет, вооружен — вот когда! А голому человеку хорошо на пляже под горячим небом — и то ненадолго! Так что никакого противоречия нет в том, что я вам вначале о природе говорил и что я сейчас рассказываю. Вам-то я это растолковываю, а Володе и растолковывать не надо, он и так все понимает. Потому что он в этой природе вырос. И любит он ее, несмотря на то что она такая. Нет в природе слезливости! А что она сама по себе прекрасна, что в ней в высшем смысле всегда все хорошо — это нашим мыслям не противоречит… Вот и все…
Дождь между тем уже опять сыпал с вечереющего неба. Набирая силу — холодный, затяжной, — он тихо кипел в траве, в лужах, стекал струйками с берегов, наполняя мутными ручьями реки и все углубления: в земле, в скалах, в камнях. Володя шел уже совершенно мокрый, ощущая в животе усиливающийся голод. Стемнело, но Володя не переставал идти. И мысли продолжали идти с ним и в то же время далеко. Но они шли теперь вразброд, неясно, замерзая от холодного дождя и ветра…
Ветер хлестал струями дождя по деревьям, по мутной рябой реке, по камням, по Володиной спине, подгоняя его. Земля стала скользкой, и особенно скользкими стали раскисшие корни деревьев, по которым приходилось шагать там, где они пересекали — обнаженные — узкую тропку…
Порой Володя выходил на песчаные места или на камни — там было легче идти, а потом опять начинались скользкие корни под деревьями, и кочки, и торфяник, и мох. Мох и торфяник впитали уже много влаги и влажно сипели, и хлюпали, и чмокали под ногами, как губки.
Володя шел возле самой воды, угадывая в темноте присутствие реки по ее шуму. Останавливаться не хотелось — да и зачем? Спичек не было, и еды не было… Ничего не было, кроме этой ночи и дождя. Он шел, то и дело падая, вытирая руки о мокрую, рваную одежду, и опять шел, стиснув зубы. Наконец он присел возле реки под деревом — под невысоким глинистым обрывом — и в тоске задремал…