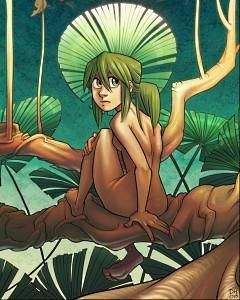Из глаз, как из-под металла, прижатого к абразивному кругу, вылетели пучки искр…
— Живой, говорю же, — очнувшись, услыхал он радостный и далекий голос Антаряна. — Живой!
Чей-то тоже далекий и приглушенный голос подтвердил:
— Живой!
«Уши заложило, — подумал Виль. — Сглотнуть и пройдет… Где я? На осыпи, что ли?»
Точно отвечая ему, Геракл Кузьмич далеко и приглушенно воскликнул:
— Счастье, что в плечо мне врезался, рукой не совладаю. Зато не раскокался о камни. — Поторопил: — Взялись!.. Помалу, помалу!
Искры закружились в глазах.
Снова очнулся он, лежа на чем-то мягком, покачивающемся, плывущем. Всюду плескалась вода, которую взбалтывал гром, в бело-синем свете плескались отдаленные, полные тревоги голоса…
* * *
Разбудила его боль. До сих пор ее не было, возможно, что он ее просто не почувствовал сгоряча. Возможно, слишком коротко было время возвращения сознания. Теперь боль, тупая, тягучая, но не сплошная — разбросанная островками, терзала. Будто под трактор угодил — не нынешний, с резиновыми скатами или на гусеницах, а давний, виденный в кино, с большими задними колесами, усеянными острыми металлическими шипами.
Он лежал на спине, укрытый по горло. Неторопливый, постепенно стихавший дождь шуршал на крыше, вялые удары грома сопровождались близким и тонким стеклянным звоном. Понял, что находится не в палатке, и открыл глаза, увидел неровно освещенный потолок, верх черного окна. Повернул голову туда, где был источник света, и встретил обеспокоенный взгляд Пирошки. Она сидела на стуле. За нею стояла вторая кровать — на ней кто-то спал. На тумбочке у стены — затемненная кусками ткани настольная лампа. На полу недвижно мерцал рефлектор.
Пирошка поднялась, шагнула к кровати, склонилась над Вилем:
— Как ты?
Худо было ему, а отметил перемену: встревожилась до того, что на «ты» назвала.
— Мы в изоляторе турбазы? На той кровати — Олег? Как он?
Он шевельнул рукой под одеялом — на то, чтобы выпростать ее, сил не было. Пирошка заметила это движение и осторожно опустилась на край кровати.
— Спит он. Растерли его спиртом, накормили, напоили горячим чаем… Спит… Я тебе чаю дам, а?..
— Не хочу…
Пирошка приблизила лицо к его лицу:
— Поташнивает?
— Ни-ни…
— Ты не утаивай!
— Ни-ни!
— Голова кружится?
— Болит. И сонная вся.
— Это, может, из-за высокогорья… Здешний доктор осмотрел тебя, уверяет, что переломов не должно быть. А вот сотрясение мозга…
— Меня вполне устраивает реакция на высокогорье. Откинь, пожалуйста, одеяло.
— Простынешь…
— За секунду?
Кисть правой руки была толсто забинтована, белая повязка перехватывала грудь, темнели зеленкой ссадины… Одеяло, нежно приминаемое руками Пирошки, снова окутало шею, плечи, грудь Виля.
— Видела, когда перевязывали? Очень там…
— А что такое — очень или не очень? — она смахнула с щеки слезу. — Мне больно…
— Давай без этого, — нарочито хмуро сказал Виль, — И отправляйся спать — нервишки у тебя сдают.
— Нельзя. Да и не засну.
— А ты поцелуй меня — поможет.
Бархатно-темные глаза ее весело сверкнули:
— А вдвоем прогуляться под дождичком, по лесочку не хочешь?
— Хочу. Но сыро там. И холодно.
— Да, неуютно.
Она коснулась губами уголка его рта, щекотно тронула лоб. Он услыхал ни на какой другой не похожий запах ее тела, закрыл глаза и покорно подчинился сну.
Чудилось, что солнечный свет не только вливается в окно и застекленную дверь, но и проникает сквозь белые-белые стены. На своей кровати в одних трусах сидел Олег, смотрел на Виля виноватыми глазами. Из порозовевшего и припухшего носа, видно, текло — рука со скомканным платком то и дело тянулась к ноздрям. Глаза слезились.
— Простите, Виль Юрьевич, — гнусаво произнес Олег. — Из-за меня вы…
— Из-за себя я… Можешь представить, что кого-то надо выручить, а я остерегаюсь, берегу свою драгоценную жизнь?
— Не представляю! Чтобы вы…
— Вот же!.. И на моем месте — как бы ты поступил?
— Как вы…
— Видишь!.. Понятие чести живо не словами, а делами. Значит, я из-за себя… Ляг, тебе тепло нужно.
Он послушно лег, натянул на себя одеяло — одни глаза торчат.
— А мне ты можешь сказать, чего ради понесло тебя на тот луг? Интересно ведь!.. Не из прихоти решился ты на такое?
— Очень надо было, очень!.. За цветком эдельвейса полез.
— Понимаю… Кабы сам сообразил, поступил бы, как ты…
Доктора, молодого бородатого мужчину с комплекцией штангиста, сопровождали Антарян и Геракл Кузьмич.
Виль так пристально оглядывал плечо и руку Геракла Кузьмича — действуют? и как? — что тот должен был объяснить:
— Ты скользнул по скале и маленько погасил скорость. И меня долбанул по касательной, срикошетил, так сказать. Плечо и рука контужены, однако подчиняются, а подвигаю поосновательней, разогрею, так и забываю, что болят… Не бери в голову — нервные хужей выздоравливают.
Доктор посмотрел в глаза Виля, измерил пульс и отошел к Олегу, выстукал и выслушал грудь, сказал своим спутникам:
— Ничто — из ряда вон — не угрожает. Получше есть, побольше спать. Ждать и верить.
— Первый вариант, таким образом, принимается, — заключил Антарян и объяснил Вилю: — Поход к Перевалу состоится. С вами тут останется Пирошка Остаповна. Вместо нее вызвался пойти доктор, а вместо тебя — Геракл Кузьмич… Не скучай, вернемся, так обо всем расскажу, точно ты сам побывал на Перевале!
Почти бесшумно отворилась дверь. Лидия-Лидуся пришла — готовая к походу, с рюкзаком за спиной. Она так зыркнула глазами, что Олег отвернулся к стене, накрылся с головой.
Виль подозвал ее, шепнул в ухо:
— Чего ты так? Больных принято жалеть. А он захворал, пытаясь эдельвейс достать! Тебе в подарок! Жизнью рисковал парень!
— Он и вашей жизнью рисковал! — Щеки ее полыхали, глаза довольно жмурились, а голос был тих и гневен. — Вами!.. Вами!
С последними словами она резко переменилась, изрядно смутив Виля, — слезы блеснули в глазах, зазвучали в голосе. Всхлипнула и, уже отойдя к двери, спросила:
— Что Вам принести с Перевала? На память!
— Если поблизости от перевала растут эдельвейсы, сорви парочку. По одному — ему и мне. И не на память — не расстаемся ведь, не прощаемся…
Ближе к полудню приехал Капитоныч — сумел пробиться на собственном «жигуленке». Сказал, что гроза и до лагеря докатилась, понятно, заволновались — что с теми, кто в горах?
— Медицина, — он обратился к Пирошке. — На перевал кто-нибудь хворый не потащился?
— Всех, в ком не были уверены, оставили разбирать палатки и готовить обед.
— А эти двое транспортабельны? Могу забрать с собой?
— Чернова увозите. А Вилю Юрьевичу лучше вернуться в лагерь автобусом — в лежачем положении.
— С медициной спорить не полагается, а? — Капитонов глянул на Виля, потом на Олега. — Как дышишь, хлопец?
— Носом, — в нос сказал Олег.
— Это я слышу!.. А в горле не свербит, в груди не отдает?
— Не свербит, не отдает…
— Тогда собирайся. Едем!
С той минуты, как начальник лагеря вошел в палату, Виль ждал: чем обернется эта первая встреча для Олега?
Случись что с парнем, Капитонов поплатился бы первым — вплоть до суда и решетки. А вечный камень, который лег бы на душу — не уберег юную жизнь! А мысли о горе матери, которой не вернули сына? Никогда они не перестали бы жечь Капитонова, случись что с парнем. Начальник лагеря за все отвечает в первую очередь и в первую очередь имеет право на спрос с любого, кто ему доверен. И то, что Капитонову угрожало, со счетов не сбросишь, оно должно ведь сказаться на его отношении к Олегу? Должно, еще как должно!.. Да не сбросишь со счетов и мудрость и своеобычность характера и взглядов этого немолодого уже человека. Интересно и поучительно увидеть, как станет он сводить концы с концами в этой истории? Тем более что все он знает из докладов тех, кто был здесь, значит, из докладов, содержащих не только факты, но и их личное понимание и толкование. Чего стоит одно то, что могла наговорить начальнику лагеря старшая вожатая!
Капитонов проверил экипировку Олега и пообещал Пирошке:
— Позабочусь, медицина, чтоб в дороге не добавить ему простуды: поедем с ветерком, но при наглухо закрытых окнах. — И обратился к Олегу: — Понял? Тогда — вперед!
И вот — остались вдвоем!..
— Пирошка, сядь возле меня.
Она придвинула стул, села.
— Нет, как ночью…
— Зачем?
— Теперь… я тебя поцелую.
Долго не сводила с него черных, усталых, как бы остывших глаз.
— Зачем?
Поправила на нем одеяло, провела ладошкой по лицу, со лба к подбородку, точно прощалась.
— Зачем я тебе?