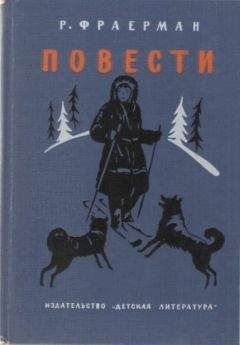В полку меня считали неплохим летчиком, даже храбрым и, пожалуй, скорее отчаянным. Я мог прилететь со штурмовки на одном хвосте, с промятой бронею кабины, с пробитыми крыльями, принеся на своих плоскостях сотни мелких и крупных осколков, которые я потом со смехом собирал в холщовый мешочек, чтобы наутро снова вместе с огнем своих пушек сбросить на головы немцев. В мешочек вместе с немецкими осколками я всегда клал письмо Гитлеру, которое нередко мы сочиняли всем звеном.
В письме мы писали:
«Гитлеру. Возвращаем вам ваши осколки. Они нам ничего не делают. А вот тебе и наш привет на твою проклятую голову. Ваня Полосухин».
И тогда уж я старался с особенной точностью класть бомбы в цель. Он получил от меня много таких записочек. Где-то они теперь?
Словом, я любил шутить со смертью и хвалился своей безумной отвагой, как хвалятся ею многие. И только один командир эскадрильи по-прежнему учил меня выполнять спокойно и терпеливо ежедневный великий труд войны.
Его не было на аэродроме, когда я поднялся на воздух и скрылся за лесом. Он выполнял другое задание. И когда он вернулся через несколько минут и узнал, что я вылетел на это боевое задание один, он сказал командиру полка:
— Я знаю его. Это задание ему не под силу. Он погибнет. Я видел там в воздухе много «мессершмиттов». Он сделает что-нибудь не так, как нужно. Разрешите мне вылететь на подмогу…
— Но откуда вы знаете, капитан, что он сделает не так? — с удивлением спросил командир полка.
— Я знал его маленьким мальчиком и знаю его безумную голову. Разрешите мне вылететь на подмогу.
— Летите, — сказал командир, — задание слишком важное.
А я между тем был уже высоко в облаках. В небе сияли синие окна, мерцали лазурные скважины меж легких белых облаков, где я скрывался сначала. Лучи солнца были уже косые. Но какой живой блеск хранило в себе небо, когда я видел его! Оно, как друг, смотрело на меня ласковым и добрым взором, провожая меня в этот неравный бой. Я видел иногда повыше, в синеве, дальнее облако, которое, споря с воздушной струей, напрасно пыталось придать себе хоть какую-нибудь окончательную форму. Я посмеивался над ним. Я дышал легко. Воздух покорно сносил мою почти волшебную скорость, тяжесть моей стальной брони. Иногда, когда я смотрел вниз, мне казалось, что воздуха совсем нет вокруг земли. Как дивный хрусталь, лежало пространство, не ставя предела твоему зрению и даже как бы приближая к тебе землю с ее предметами. Бывают такие прозрачные дни для летчиков. Ты видишь, как бежит по дороге ребенок, как боец высекает огонь из кремня. Я посмотрел на карту. Я был уже давно за линией фронта.
Я спустился ниже, совсем низко. Такая же ясность лежала и тут. Ей было все равно — где мы, где немцы. Я полетел над дорогой. Вот вышел из-под дерева немец и остановился. Он был с автоматом и в каске. В руках у него была книжечка. Он стоял на дороге и смотрел на меня, что-то записывая. Он был в офицерской форме. Это была вредная тварь, и я убил его, нажав на гашетку пулемета. Потом я увидел еще четырех. То были солдаты. Они были тоже в касках и оглянулись на меня. Ужас поднял их руки. Они схватились за каски и побежали. Грозная «черная смерть» шла на них. Они даже не догадались упасть или кинуться в сторону. Страх, как животных, гнал их прямо передо мной по дороге. Я мог бы их убить одним движением пальца, лежавшего на гашетке пулемета. Но я подумал, что впереди, может быть, мне встретится что-нибудь лучшее для цели, и я пролетел над ними. Они остались жить. Но воображение мое вдруг проснулось и закипело в голове. Я начал зачем-то думать о судьбе этих четырех фашистских солдат. И вот я представил себе, что они вернулись домой, женились, народили детей, которым будут рассказывать потом, как они ходили в поход на восток и что только чудо спасло их от смерти. И мне хотелось войти в этот момент в их дома, к их детям, к их женам и крикнуть: «Это я — ваша судьба! Не чудо, не бог, а я, советский юноша, комсомолец Ваня Полосухин, не пожелал вас убить. Говорите же, что вы сделали в этой жизни, какое добро принесли человечеству? Или я оставил вас жить снова для зла и войны?»
Проклятое воображение! Оно посещает меня в самое неподходящее мгновение.
Я снова посмотрел на карту. Я был уже в нужном квадрате и взмыл в облака ненадолго, чтобы выследить цель. Я заглянул в голубые небесные окна и увидел ее, эту цель.
Пятьдесят фашистских танков стояли неподвижно, застряв у дороги в болоте, окруженном редким мелколесьем. Я видел не только танки, но и солдат. Много солдат копошилось возле них. Мне казалось, что я вижу даже, как кипит листва на деревьях в лесу. Но это, конечно, мне только казалось.
Цель была удобна для бомбежки. Но рассеянное воображение мое, словно дым, волочилось за мною, петляя, как белый след, что иногда оставляем мы в небе зимою, привлекая любопытство мальчишек. И не было у меня нужного для боя внимания.
Я совершил ошибку. Вместо того чтобы зайти на цель внезапно, скрытно, с запада, откуда не ждали меня, я ринулся на нее прямо с востока. И тут я увидел, что враг был осторожен. Над группой застрявших войск и танков в воздухе кружила целая эскадрилья «мессершмиттов».
Они заметили меня сразу.
Мы узнаём их по силуэтам в огромном небе, которое постоянно блестит.
Они напали на меня, не дав мне подойти к моей цели, и начался неравный бой. Сколько он длился — не помню. Они трепали мой хвост, пробивали мои плоскости, все же не рискуя подойти близко к моим пушкам.
Я сражался неплохо. Я шел на истребителей прямо, целясь им в лоб и не думая о собственной гибели. Они сворачивали, не вынося моей лобовой атаки, удирали и снова возвращались. Их было много, а я один. И воздух держал их легче, чем мою тяжелую крылатую броню. Уже стекла моего фонаря стали белыми, покрылись будто морозом от ударов множества пуль. Уже руки мои были в крови, и кровь текла по шее. Уже плоскости крыльев моих тяжелели, и воздух подпирал их не так покорно, как прежде.
Я погибал, и со мною исчезал тот мир, что так недавно населял мой взор и мое сердце такой красотой и прелестью.
Но не эта мысль терзала меня в ту минуту. Цель ускользала от меня. Враг уходил. Танки его оставались целы и некоторые уже выбирались на дорогу. Значит, я не сделал того, что возложили на меня мой долг, мой командир и мои боевые товарищи.
Я ничего не мог сделать, кроме того, чтобы умереть.
Тогда смелый образ Гастелло — пусть будет светлой его память! — пришел ко мне и положил свои руки на мои окровавленные пальцы, судорожно вцепившиеся в штурвал.
И я решил, как он, упасть на голову врагов и самому погибнуть среди взрыва, но не дать им уйти.
Я пошел вниз. Я искал тени от леса или от холма, длинной темной тени, которую всегда можно найти на земле. В ней я хотел укрыться хоть на мгновение от вражеских истребителей и сделать хотя бы один заход на цель.
Я нашел эту тень и, оглядевшись, увидел вдруг пламя, поднявшееся из самой гущи фашистских «тигров». Черный дым, качаясь, поднялся над ними. Кто-то метко бомбил врага.
«Мессершмитты» тотчас же отвалили от меня.
Я стер кровь со своих глаз и в ту же минуту увидел черную машину, которая, подобно целому снопу молний, сверкнула на солнце. Я узнал машину своего командира. Она вышла из-за холма с запада внезапно, обрушив на врага свой огонь. Да, это был командир. Это он сделал то, что должен был сделать я, словно учитель исправив мою ошибку и обведя мои шаткие буквы своей твердой рукой.
Он покачал мне в воздухе крыльями и приказал следовать за ним.
Я пристроился к нему ведомым. Я не чувствовал более своей крови, текущей по шее. Точно ручьи, влились в мое сердце свежие силы.
Мы сделали еще два захода, положили все бомбы в цель, выпустили весь огонь, смешали в кашу немецких солдат и «тигров». И я видел, как фашисты бегали по дороге, словно мыши.
Это была хорошая работа — я могу это сейчас сказать. «Мессершмитты» исчезли. Ударили немецкие зенитки. Они молотили, как барабан. Но я этого, конечно, не слышал. Барабанили только осколки по моей броне, зажигая на стали как бы голубое сияние. Это сотрясались частицы брони и сверкали. Кровь текла у меня по шее.
Но теперь, когда было сделано все, мы принимали удары спокойно.
Вдруг командир покачал снова крыльями три раза, давая мне знак, чтобы теперь я уходил от врага.
Я медлил. Я не хотел уходить. Я подошел ближе к командиру и увидел, что машина его идет тяжело, все кренясь на правое крыло. Так летит куда-то умирать сильная, тяжело раненная птица — скорее всего, орел. Нет, я не уйду!
Я стал кружить над ним.
Но он еще раз покачал крыльями, как мне показалось — сердито. И это значило: «Исполняй приказ».
Сердце мое разрывалось на части, руки не хотели поворачивать руль, ноги отказывались нажимать на рычаги.
А он все качал и качал крыльями, словно грозил и укорял меня перед смертью: «Исполняй приказ командира!»